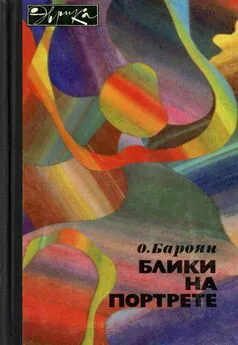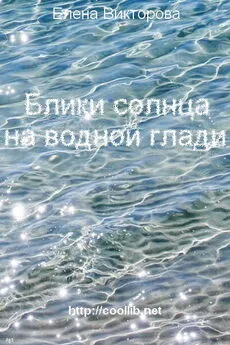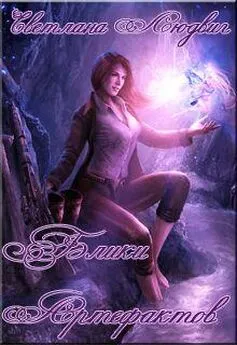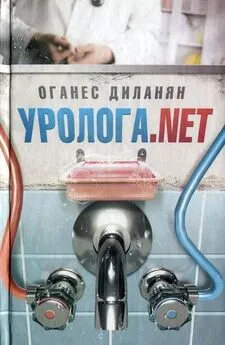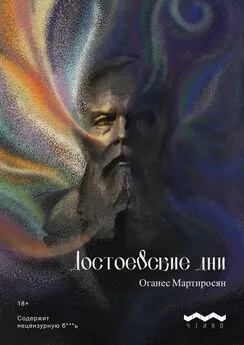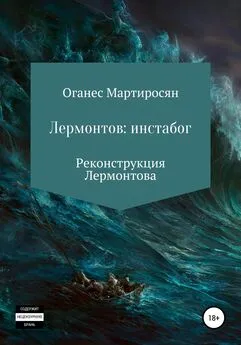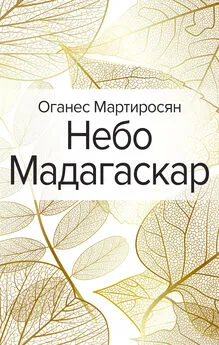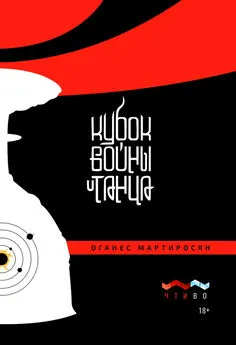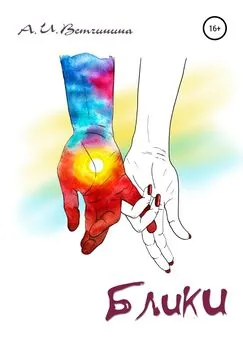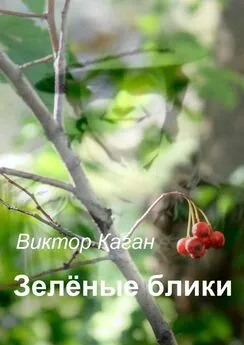Оганес Бароян - Блики на портрете
- Название:Блики на портрете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оганес Бароян - Блики на портрете краткое содержание
Блики на портрете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Речь идет об удивительной, странной форме жизни, о некоем совершенно новом явлении в природе! По современным представлениям, жизнь реализуется в клетке, вне клетки о жизни говорить нельзя. А тут — живая молекула, лишенная белка!
Достоверно известно, что они виновники некоторых болезней томатов, бананов, картофеля: растения плохо растут и развиваются, слабо плодоносят.
Прямые опыты открыли перед исследователями такую картину: нуклеиновая кислота вироида вообще не несет никакой наследственной информации — вещь неслыханная и небывалая в мире живого! Может быть, болезнетворная сущность вироида связана с тем, что он дезорганизует, отвлекает на себя деятельность клеточных ферментов и тем тормозит и нарушает развитие организма хозяина? И вообще: существо это или вещество?
Есть версия, что и болезнь куру вызывается возбудителем, подобным вироиду. Но причина этой одной из самых странных болезней пока не разгадана. Полвека назад она появилась в одном из новогвинейских племен. А в 1976 году антрополог и вирусолог К. Гайдушек, 20 лет изучавший куру, был удостоен Нобелевской премии. Скрытый период болезни продолжается от десяти до пятнадцати лет. Затем наступают нарушения координации движений, затруднения в ходьбе. И гибель от прогрессивного паралича…
Не правда ли, даже столь беглое описание наводит на мысль о явном сходстве со скрейпи, болезнью мозга овец и других млекопитающих? Ведь возбудитель скрейпи тоже никак не проявляет себя не менее полутора-двух лет. И это дало основание говорить о неких необычных, неизвестных ранее «медленных вирусах», возможно, замешанных в трагических событиях, связанных со скрейпи и куру.
Неясна пока и природа так называемой «болезни легионеров», о которой ничего не знали до самого последнего времени.
В 1974 году на собраниях ветеранов «Американского легиона» — организации весьма влиятельной в США — устроители стали недосчитываться то одного, то другого собрата. Оказалось, что они больны каким-то особым видом острой пневмонии с большим количеством смертельных исходов. Эпидемия вспыхнула совершенно неожиданно, и, что особенно насторожило врачей, болели только сами «легионеры» или члены их семей. Лишь отдельные случаи подобного заболевания зарегистрированы в Европе. Начали искать причины, обнаружили источник — возбудителем болезни оказался неизвестный ранее микроскопический паразит…
Я намеренно обратился к столь таинственным и даже пугающим примерам, чтобы сказать: хотя нам известно уже очень многое об инфекционных болезнях человека и животных, но этих знаний вовсе не достаточно, чтобы дать исчерпывающие ответы об эпидемических процессах сегодня и завтра.
Условия жизни современного человека настолько изменились, что причины, вызывающие болезни сегодня, вовсе не те, что были причиной эпидемий, скажем, в начале века. За последние 30–40 лет повсеместно исчезли формы классической дизентерии, и бактерии, ее вызывающие, стали менее болезнетворными. А инфекционные заболевания, которые еще 10 лет назад собирались сдавать в музей истории медицины, ныне возрождаются в обновленном виде: их возбудители обрели устойчивость к лекарствам. Именно поэтому действия, предпринятые против болезней в прошлом, не могут гарантировать непременного успеха в будущем.
Справедливости ради скажу, что среда обитания человека менялась всегда, правда, не с такой скоростью, как сейчас. И, как правило, торжествовали могучие способности к адаптации, разум, мудрость — человек приспосабливался к новым условиям.
В последние годы особое значение придается такой идее: сохранить все живое на планете практически важно для сохранения и улучшения жизни самого человека.
С возбудителями болезней вопрос, понятно, весьма сложен. Скажу со всей откровенностью: требуется известная смелость, чтобы отказаться от складывавшегося веками стремления уничтожить, искоренить возбудителей инфекций. Тем более что, борясь с болезнями, мы стремимся к долголетию. Если считать биологическим пределом жизни 150 лет, то мы проделали уже значительную часть пути. Сегодня средняя продолжительность жизни — 70–73 года, в то время как на заре человечества многие умирали до 20 лет и раньше…
Так какие же микроорганизмы «срезать под корешок», оставив для истории лишь музейные экземпляры?
Какие оттеснить и зажать в тиски строгого контроля?
Какие заставить безропотно повиноваться и, может быть, даже изменить свою зловредную сущность (для чего, разумеется, этим микроорганизмам пришлось бы подвергнуться генно-инженерным операциям или другим тонким манипуляциям!)?
Э. Геккель, немецкий естествоиспытатель и последователь Ч. Дарвина, введший в 1866 году термин «экология», считал ее наукой о взаимоотношениях организма и среды. Это понимание стало наиболее распространенным. Мы же постоянно подчеркиваем, что экология изучает образ жизни организма в конкретных условиях внешней среды. Это имеет непосредственное отношение к профилактике болезней, которая, как известно, и есть генеральная линия советского здравоохранения. Так вот, экологический подход требует учитывать не только явные, видимые и легко обнаруживаемые воздействия на организм, но и скрытые, постоянно действующие влияния. Как ни парадоксально это звучит, но именно интересы человека часто требуют встать «на точку зрения» микроба, виновного в болезни, чтобы понять его происхождение, эволюцию и наметить наиболее быстрые и экономичные способы ликвидации болезней.
«А что, если бы микроорганизмы сами решились уничтожить Гомо сапиенс — человека разумного как вид? Как бы вы отнеслись к этой невероятной идее?»
Этот вопрос задал мне один из самых блестящих микробиологов нашего времени, Г. Рамон. Имя его стоит в ряду таких победителей инфекций, как Э. Дженнер, Л. Пастер, И. Мечников, Р. Кох, П. Эрлих, Д. Ивановский, А. Флеминг, Н. Гамалея…
О Рамоне я знал еще со студенческих лет. Предупреждение и лечение дифтерии, по Рамону, было одним из первых триумфов иммунологии. В 30-х годах, работая эпидемиологом в Дагестане, я столкнулся с тяжелой вспышкой дифтерии. И тогда в памяти часто возникал чеховский доктор Дымов, вооруженный против грозной болезни лишь трубочкой для отсасывания пленок.
В 30-е годы уже использовались лечебные сыворотки против дифтерии, они снижали смертность, но все равно болезнь протекала чрезвычайно тяжело. Именно тогда я познакомился с работами Рамона: еще в 1922 году ему удалось получить дифтерийный анатоксин — обезвреженный яд, предохраняющий от тяжелой болезни. Эффект, по сообщениям врачей, он давал прекрасный: в четыре, а то и в десять раз уменьшалось количество заболевших. Но где было взять этот анатоксин? В нашей стране его начали вырабатывать в 1933 году.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: