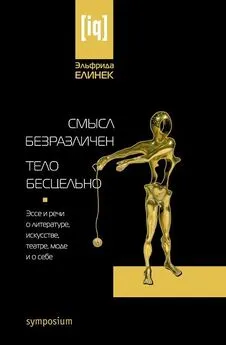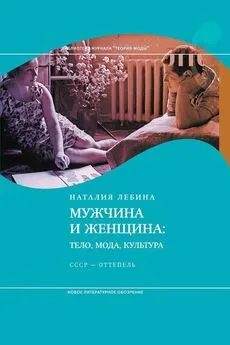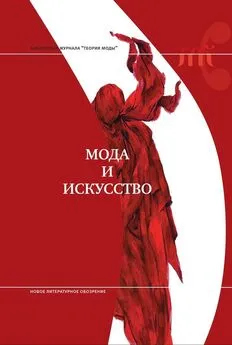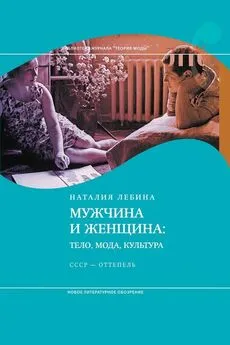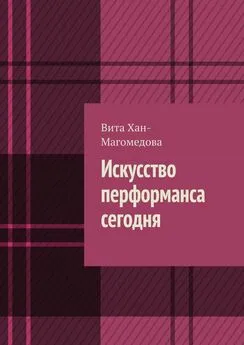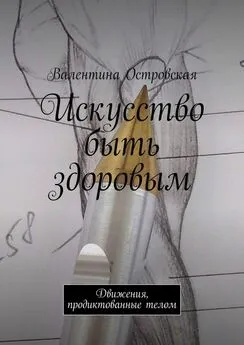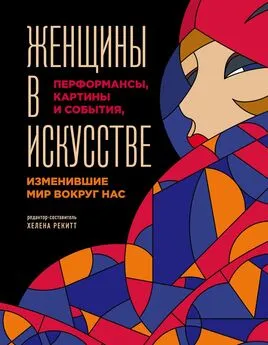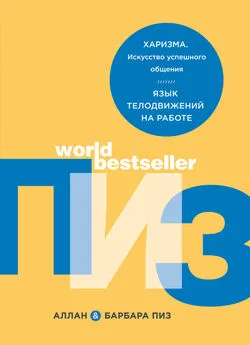Франческа Граната - Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело
- Название:Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франческа Граната - Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело краткое содержание
Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, все, что на первый взгляд выглядело как последствия опустошительной катастрофы (особенно после того как манекены вместе с надетыми на них вещами изгнали из закрытого помещения, отдав их на растерзание стихиям), в действительности было тщательно выстроенной постановкой, к тому же подробно описанной в брошюре, изданной в дополнение к экспозиции. Чтобы искусственно состарить предметы одежды, Маржела применил научный метод культивирования микроорганизмов в контролируемой среде, так что процесс фабрикования воображаемых историй и ностальгических чувств был в буквальном смысле деконструктивным и демонстративным.
Каждого посетителя этой выставки Маржела перебрасывал в карнавальное измерение и втягивал в свои игры, целенаправленно нарушающие законы темпоральности. Чуть ли не за одну ночь он успевал настолько состарить вещи, которые до этого благополучно выдерживали проверку временем, что они превращались в лохмотья и распадались на лоскутки. Более того, он проделывал это в условиях музейного пространства, места, где традиционно занимаются сохранением материальных объектов, а не их разрушением.
Маржела переворачивает темпоральность ретроспективы, которая, по определению, должна укоренить творчество художника (а в нашем случае модельера) в стабильном и «вечном» музейном времени. Он переворачивает отношение музея к постоянству и недолговечности. Как отмечает Линда Сандино в статье, посвященной «эфемерному» в современном искусстве, музеи «причастны к переходу [объектов] из категории недолговечных в категорию нетленных», поскольку они «призваны поддерживать миф о том, что произведения искусства неподвластны переменам и бессмертны». Как следствие, «бренность [слово, очень точно характеризующее всю роттердамскую экспозицию] изничтожает непреходящую значимость и ценность музейной коллекции» 300.
Патина, мгновенно появившаяся на выставленных в залах роттердамского музея предметах одежды, обнуляет «символический капитал» патины как таковой, стирая коннотации, связывающие ее с той материальной средой, в которой обитают высшие классы. Патина действительно часто служит залогом подлинности некоторых предметов, указывая на их солидную генеалогию и историю, в которой, как в зеркале, отражается генеалогия и история рода их владельцев 301. Кроме того, по мнению Кэролайн Эванс, Маржела и другие модельеры 1990‐х годов, для которых искусственный налет времени стал значимым выразительным средством, перевернули привычные представления о немилости моды по отношению к патине. Действительно, патина едва не растеряла свой символический капитал в результате потребительской революции, связанной с наступлением индустриальной эпохи и культивировавшей в общественном сознании новые стереотипы, согласно которым воплощенная в модной одежде «новизна» является показателем высокого социального статуса 302. Эванс ссылается на Гранта Маккрэкена, утверждавшего, что патина стала значительно меньше ассоциироваться с социальным статусом, когда на смену XVIII веку пришел век XIX. Однако Арджун Аппадураи указывает на то, что процесс обесценивания патины нельзя считать завершенным, коль скоро она и в наши дни продолжает сохранять определенную социальную значимость 303.
Барбара Винкен также замечает, что способы, которыми Маржела отмеряет течение времени, противоречат более традиционным представлениям о пристрастии моды к новизне. «Время, – пишет она, – буквально вцепляется в произведения Маржела. Созданные им предметы одежды несут на себе следы, которые оставляет уходящее время, и сами по себе являются знаками времени. Время запечатлено в них двояко: во-первых, это время, затраченное на процесс производства, а во-вторых, это следы, которые время оставляет на ткани на протяжении всего срока использования [вещей]» 304.
Другая впечатляющая инверсия, произошедшая во время роттердамской выставки, – это превращение предметов одежды в своего рода живые организмы. Ожить им помогли колонии бактерий, дрожжей и плесени, искусственно подселенные на ткань. Для этого Маржела воспользовался научным методом, который тщательно описан в каталоге выставки, подготовленном и изданном модным домом Martin Margiela. Как уже было сказано в предыдущей главе, это ставит Маржела в один ряд с естествоиспытателями XIX – начала XX века, пытавшимися при помощи новых оптических приборов и записывающих устройств сорвать покров тайны, увидеть и сделать достоянием публики обычно невидимую жизнь «неживых» объектов и наделить их некоторой субъективностью. Кроме того, Маржела выступает в роли волшебника или карнавального ловкача, который заставляет предметы оживать с помощью алхимии и прочих трюков. Кэролайн Эванс кратко суммирует исключительные способности Маржела, когда говорит о другом освоенном им алхимическом трюке – умении превращать никому не нужные «тряпки» в предметы одежды высочайшего класса. Она называет его «a kind of „Golden Dustman“» – «своего рода „Золотым мусорщиком“» мира моды, превращающим «низкую материю в золото» 305.
Маржела можно сравнить с пионерами кинематографа, одержимыми желанием увидеть то, что долгое время оставалось невидимым для человеческого глаза. Этот исследовательский интерес, подробно обсуждавшийся в ранних работах по теории моды, особенно в связи с фигурой французского мыслителя и кинематографиста Жана Эпштейна 306, разделяли и сюрреалисты, в том числе Сальвадор Дали, очарованный возможностью взглянуть на мир через микроскоп и предвкушающий последующие за этим открытия. Пожалуй, наиболее ярко его интерес к скрытым мирам выражен в поздней кинематографической работе «Впечатления о Верхней Монголии. Посвящение Раймону Русселю» (1975). «Впечатления» созданы отчасти под влиянием ранних научно-популярных фильмов Жана Пенлеве. Структурную основу сюжета и визуального ряда фильма образуют экстремально крупные планы узоров, покрывающих латунный ободок шариковой ручки, позаимствованной Дали в нью-йоркском отеле «Сент Реджис». Дали не скрывал происхождения этой «узорчатой или крапчатой патины»: по его словам, она появилась благодаря тому, что он периодически орошал ручку собственной мочой, – и надо заметить, это вполне карнавальный прием. Более подробно Дали описал свои источники вдохновения в разговоре с режиссером фильма Хосе Монте-Бакером:
В этой до стерильности чистой стране я наблюдал, как в результате взаимодействия мочевой кислоты с цветными металлами писсуары в роскошных уборных отеля приобретают оттенки ржавчины, разнообразие которых поражало воображение. Поэтому я стал регулярно мочиться на латунный обод этой ручки и делал это всю прошлую неделю, чтобы получились чудесные узоры, которые вы обнаружите с помощью своих камер и линз 307.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: