Кирилл Кобрин - На руинах нового
- Название:На руинах нового
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-89059-331-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - На руинах нового краткое содержание
Эссе Кирилла Кобрина, собранные под этой обложкой, – об устройстве некоторых книг, из которых эта эпоха была сделана. Пертурбации с черепом автора трактата XVII века о погребальных урнах; лондонские благотворительные лавки, где заканчивают свой век еще недавно волновавшие публику сочинения; яростный мизантроп Свифт, брезгливый мизантроп Владимир Сорокин; Владимир Ленин, Франц Кафка, Томас Манн, Хорхе Луис Борхес, Александр Кондратов и другие создатели нашего культурного обихода – в новой книге Кобрина.
Автор смотрит на руины нового с меланхолией и благодарностью. Эссе, вошедшие в книгу, публиковались в бумажных и электронных изданиях на протяжении последних пяти лет.
На руинах нового - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сейчас в Сети можно найти тысячи образовательных программ и видеоблогов, послушать лекции о Вермеере гарвардского профессора, о Малевиче – знаменитого специалиста по русскому авангарду, для русскоязычной публики есть «ПостНаука», есть «Арзамас»; вам расскажут всё. Проблема в том, что эти вещи – среди которых немало замечательных и даже выдающихся – просвещают публику насчет искусства. Или даже учат «понимать искусство», что бы за этой фразой ни стояло. Но «Способы видеть» – особняком. Не о том, как «понимать» ту или иную картину, не о том, что и как «хотел сказать» своим произведением художник. И даже не о том, при каких исторических обстоятельствах все это происходило. Джон Берджер – о том, как увидеть (to see) произведение искусства прошлого, имея в виду и то, когда оно было создано, и – особенно – то, при каких нынешних обстоятельствах мы на него смотрим. Столкновение двух исторических контекстов позволяет понять, что произошло с западным миром за последние примерно пятьсот лет. Отсюда следующий ход, ради которого все и было задумано. Научившись видеть таким образом, мы можем увидеть в картине не только саму картину, ее материал (во всех смыслах), ее красоту или уродство (вещи сомнительные, не так ли?), историю ее создания и дальнейшую судьбу, нет, главное, мы «увидим» в ней воплощение общественных отношений, представлений о деньгах, богатстве, труде и особенно о власти. В раму каждой из картин упакован сконцентрированный способ функционирования феномена, который историки называют «западным обществом Нового и Новейшего времени». Берджер последовательно снимает пласт за пластом, чтобы показать источник невероятного культурного взрыва, который произошел в Европе (и потом в Северной Америке) за последние пятьсот лет. Этот источник – власть и ее приложение в определенных социальных условиях. От эпохи Ренессанса до времен рекламы Martini и «Макдоналдса» характер этой власти сильно трансформировался; вместо сложной сословной иерархии – редуцирующий все до примитивной простоты капитал. Джон Берджер на телеэкране демонстрирует это, подкрепляя свои соображения визуальным и звуковым рядом. Сегодня все, кто хотел (и кто не хотел, но был вынужден), читали и Фуко, и Беньямина, и Джудит Батлер, однако «Способы видеть» не выглядят продуктом своей эпохи, милым, но устаревшим, отнюдь. Дело в самом Берджере. Он не поучает и не просвещает, он страстно учит рассуждать. А интеллектуальная страсть ничуть не слабее и не вторичнее ни любовной страсти, ни алчности.
Перед нами очень странный и очень редкий случай, когда учат не художника, а публику, причем первого не возносят на пьедестал и не свергают с него. Наоборот, исходной точкой является следующее: публика и художник равны. Это равенство акторов одного общества; такие вещи, как «художественный талант» и «гений», Берджер почти всегда выводит за скобки [108]. Ему неинтересно пересказывать книги по истории искусства. Он одержим другим: почему один человек вдруг решил заказать художнику такую картину, почему художник нарисовал ее именно так, а не иначе, почему эту картину позже купил другой человек, почему несколько столетий спустя эта картина вдруг стала означать совсем другое – и в отношении смысла, и в отношении цены. Собственно, Джона Берджера интересует только человек, причем человек исторический; остальное – побочный эффект. В последнем я с ним согласен. «Прекрасное» может вдруг возникнуть в нашей жизни, – в той сфере жизни, что называется искусством, – именно как побочный эффект. Художник писал портрет вельможи, чтобы заработать деньги и устроить свою карьеру; все остальное – дело случая, точнее – результат столкновения разных контекстов, прямого отношения к искусству вроде бы не имеющих. Берджер утверждает, что эти контексты носят сугубо общественный характер. И здесь он несгибаемый марксист.
С некоторым запозданием я должен дать некоторые факты, касающиеся предмета моего рассуждения. Как уже говорилось, «Способы видеть» состоят из четырех частей. В первой демонстрируется, что происходит с классическим произведением изобразительного искусства, этим продуктом одного социального [109]контекста, когда оно попадает в другой, нынешний социальный контекст (и как мы его видим сегодня), во второй части классические произведения изобразительного искусства подвергаются анализу с гендерной точки зрения (к примеру, обсуждается, как в наше время женщины видят изображение женщин на старых картинах [110]), в третьей части речь идет о том, как социальный статус и деньги формировали и формируют ви́дение произведений живописи, наконец, четвертая, заключительная – о том, как визуальная реклама стала играть ту же роль, которую раньше играла живопись, и как первая определяет то, что мы сегодня видим во второй. Берджер все время говорит об одном и том же феномене, только берет к рассмотрению разные аспекты. Он бьет в одну и ту же точку. «Любовью к искусству не объяснишь ровным счетом ничего в истории, даже в истории искусства». Как через 41 год после «Способов видеть» пела группа Pet Shop Boys, «love is a bourgeois construct» («любовь – буржуазный конструкт»). Даже любовь к искусству.
Сегодня любой средней руки докторант, сочиняющий диссертацию по «критической теории», укажет на то, что вышеперечисленное уже не просто очевидно, а является банальностью. Это правда. Берджер ничего этого сам не придумал; он излагает вещи, которые прочел в сочинениях классиков Франкфуртской школы, Вальтера Беньямина [111], Мишеля Фуко, Симоны де Бовуар и так далее. Да, базовые вещи «критической теории», «французской теории» и теории феминизма. Но прежде всего «Способы видеть» – передача на общественном телеканале, а не академический труд или высоколобое эссе. Она адресована тем, кто бывал в музеях и на выставках – или, быть может, имел бы желание туда пойти, но кого отпугивает слово «искусство», заключенное в золоченые музейные рамы. Ну хорошо, вот приду я в Национальную галерею. Сам, не с экскурсией и не по какому другому случаю. Что же я там увижу? Холсты, рисунки, подписи. О чем это все? И тут подходит искусствовед в твидовом пиджаке с бархатными локтями и начинает объяснять, мол, это Красота, более того, она стоит сегодня пять миллионов, а вот здесь обратите внимание на забавную деталь: когда художник работал над произведением, у него умер маленький сын, отсюда грусть, да и вообще тогда шла война одного правителя с другим, время было такое, кровавое и жестокое, не то что нынче. Переходим в следующий зал.
«Способы видеть» не претендуют на научную новизну. В той же мере Берджер отказывается и от роли «просветителя». Он не просвещает народ по поводу прекрасности искусства. Берджер учит – на своем примере человека, преображенного интеллектуальной страстью, – что видеть искусство – значит о нем думать и рассуждать, но только не на площадном уровне (и не на академическом, конечно), а с позиции тотальной социальной критики. Это не опрощение «критической теории» ради того, чтобы ее понял так называемый простой человек, это перемещение потенциального посетителя музея (и актуального телезрителя) в поле социальной критики, превращение его из объекта ее в субъект. Подходя к искусству с этой позиции, смотрящий на то или иное произведение научается осмыслять себя как существо социальное – кем, мы, собственно, все являемся. Как известно, человек – «общественное животное». Рефлексируя над «общественным», человек становится человеком. Если во всем, что делал Джон Берджер, и содержится некий «гуманизм», о чем любят говорить, то только в этом. И здесь он уходит от марксизма с его идеей «классового сознания»; социальная критика принципиально важна не только для угнетенных, она первостепенно важна антропологически.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






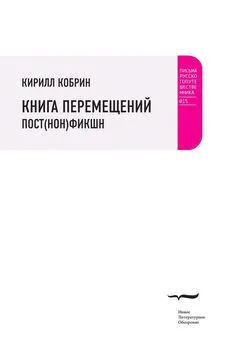


![Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)
