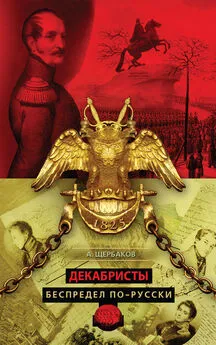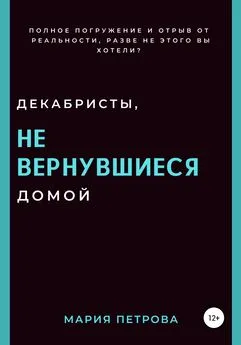Вадим Парсамов - Декабристы и Франция
- Название:Декабристы и Франция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РГГУ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7281-2198-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Парсамов - Декабристы и Франция краткое содержание
Для историков, филологов, культурологов и всех интересующихся проблемами культурного взаимодействия.
Декабристы и Франция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Aimable fainéant, déserteur du Permesse.
[Любезный ленивец, беглец Пермеса.]
Создаётся традиционный для легкой поэзии образ талантливого поэта-ленивца, который, видимо, являлся элементом творческого поведения самого Ивашева 26. Лень Ивашева в данном случае проявляется в том, что он чтение предпочитает творчеству:
La lecture a, sans doute, un charme consolant,
Mais doit-elle en marâtre enchaîner le talent.
On dirait, à te voir, à tes livres fidèle,
Que ta verve est éteinte et ton piano rebelle.
[В чтение, возможно, имеется утешительная прелесть,
но должно ли оно, подобно мачехе, сковывать талант?
Говорят, что тебя видели погруженным в книги,
что твое вдохновение угасло, что пианино тебя не слушается.]
Читатель, не знакомый с обстоятельствами конспиративной деятельности Тульчинской управы, увидит в этих стихах противопоставление легкого чтения оригинальному творчеству Однако на языке тайного общества чтение означало политическое образование и составляло неотъемлемую часть декабристского быта. И.Д. Якушкин, вспоминая Семеновскую артель, писал: «После обеда одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе – такое времяпрепровождение было решительно нововведение» 27.
Примерно об этом же свидетельствует и декабрист А.Е. Розен: «С 1822 года, по возвращении гвардии с похода в Литву, заметно было, что между офицерами стали высказываться личности, занимающиеся не одними только учениями, картами и уставом воинским, но чтением научных книг. Беседы шумные, казарменные о прелестях женских, о поединках, попойках и охоте становились реже, и вместо них все чаще слышны были суждения о политической экономии Сея, об истории, о народном образовании. Место неугасаемой трубки заменили на несколько часов в день книги и перо, и вместо билета в театр стали брать билеты на получение книг из библиотек» 28.
За чтением тульчинских декабристов следил сам Пестель. В частности, он поручил Ивашеву изучить и сделать выписки из «сочинения Баррюэля о Вейсхауптовом тайном обществе» (XII, 264). Возможно, это занятие и послужило поводом к посланию Барятинского, который сам не любил политическую литературу 29и предпочитал ей собственное творчество. Политическим радикализмом не отличался и Ивашев. Барятинский рисует образ любимца муз, из-за которого «Euterpe dispute à la vive Erato» (Эвтерпа горячо спорит с Эрато), т. е. музыка и поэзия предъявляют свои права на талант Ивашева.
Далее от поэтических штампов Барятинский переходит к описанию конкретных литературных занятий Ивашева, и его стихи приобретают характер уникального свидетельства. Ивашев – переводчик Лафонтена:
О! toi, de la Fontaine aimable traducteur.
[О ты, любезный переводчик Лафонтена.]
Мы узнаем, что им переведены на русский язык две сказки Лафонтена. Первая узнается по имени главного героя, входящему в ее название.
…Il rit en revoyant son Carvel soucieux.
[.. Он (т. е. Лафонтен) смеется, снова увидев своего
озабоченного Карвеля.]
Речь идет о сказке Лафонтена «L’anneau d’Hans Carvel» («Кольцо Ганса Карвеля»), сюжет которой Лафонтен заимствовал у Рабле 30. Название другой сказки можно установить по пересказу содержания:
En intègre valet un amant s’insinue.
Pour écarter l’afront de sa tête chenue,
L’époux sous un poirier vient guetter le rusé…
Mais au gré de tous trois, ton vers souple, aiguisé,
Trompant de Sire Bon la rage maritale,
Orna son front joyeu de l’aigrette fatale.
[Любовник под видом честного слуги входит в доверие.
Чтобы смыть позор со своей седой главы,
супруг ждет хитреца под грушей…
Но, по воле всех троих, твой стих, гибкий и острый,
обманув супружеский гнев Сира Бона,
украсил его довольное чело неизбежными рогами.]
Барятинский пересказывает здесь сказку Лафонтена «Le cocu battu et contant» («Битый и довольный рогоносец»), сюжет которой восходит к «Декамерону» Боккаччо 31.
Творчество Лафонтена приходится на период становления французского литературного языка, поэтому свою задачу как автора он видит не в вымысле, а в языковой обработке уже имеющихся сюжетов, отсюда игривое соединение непристойности содержания с изящностью литературной формы.
Ивашев переводил Лафонтена примерно в аналогичной языковой ситуации, когда процесс становления литературных языковых норм еще не завершился, и поэтому невольно оказывался перед необходимостью принятия тех или иных стилистических решений. К сожалению, из-за отсутствия текстов его переводов об этой их стороне судить невозможно. Поэтому приходится довольствоваться общими суждениями об их достоинствах такого нестрогого судьи, как Барятинский:
Que tu sus bien, enfin, dans ta langue sonore
Transportant avec art ses folâtres écrits
Revêtir de nos mœurs le destin des maris!
[Как хорошо ты сумел, наконец, звучным слогом,
передающим с искусством его (т. е. Лафонтена)
игривые творения,
приноравливать к нашим нравам судьбы мужей.]
Ивашев, видимо, не просто переводил, а «переделывал» Лафонтена, приспосабливая его к «нашим нравам». Возможно, его переводы, предназначенные для мужского общества, были насыщены непристойно-эротической лексикой, что делало их непроходимыми через цензуру На это намекает Барятинский в словах: «Eh bien, cher Ivacheff si tu fuis la censure…» (Итак, дорогой Ивашев, если ты избегаешь цензуры…). Кроме того, переводам Ивашева Барятинский противопоставляет свою «стыдливую музу» (та muse est chaste encore).
Другой стороной творческой натуры Ивашева является его музыкальность. Значительная часть послания посвящена описанию игры Ивашева на пианино и тому впечатлению, которое оно производит на слушателей. Со страниц сборника до нас как бы доносятся звуки музыкальных вечеров, составлявших, видимо, неотъемлемую часть тульчинских досугов.
Послание заканчивается пластически-выразительной картиной декабриста, склонённого над книгой:
La tête sur ta main nonchalamment penchée,
Sur quelque livre ouvert ta vue est attachée;
Et l’autre main tendue en un repos fatal,
Faisant bondir ses doigts par un jeu machinal,
Prélude savammant, en cadence inutile,
Sur le brillant vernis de la table immobile.
[Голова небрежно опирается на руку,
а взгляд устремлен в раскрытую книгу;
другая рука лежит в бездействии,
пальцы машинально выстукивают
искусное вступление в непроизвольном такте
на зеркальной поверхности стола.]
Итак, Ивашев представлен в атмосфере поэтического безделья, легких стихов, музыки и чтения.
Павел Иванович Пестель – личность иного плана, чем Ивашев. Его трудно назвать любимцем судьбы. Сын Сибирского генерал-губернатора, имевшего сомнительную репутацию, хотя и не совсем заслуженно, Пестель прокладывал себе дорогу исключительно собственным трудом и талантом. Карьера его складывалась непросто. Александр I лично недолюбливал Пестеля и не спешил с его повышением, несмотря на то что и П.Х. Витгенштейн, и П.Д. Киселев, непосредственные начальники Пестеля, давали самые лестные отзывы о его деловых качествах. Если Ивашев был человеком одаренным, то Пестель был гениальным. Обладая выдающимся государственным умом, обширными познаниями, прежде всего в политических науках, он был великолепным оратором, способным убеждать и увлекать за собой людей. Над организацией тайного общества Пестель работал много и серьезно, не чуждаясь при этом интриг и политиканства 32. Колоссальная воля и ясный ум обеспечили ему непререкаемый авторитет среди членов Тульчинской управы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: