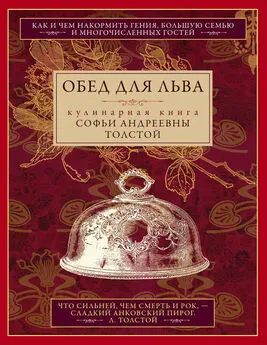Софья Агранович - Двойничество
- Название:Двойничество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Самарский университет
- Год:2001
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Софья Агранович - Двойничество краткое содержание
Чаще всего о двойничестве говорят применительно к системе персонажей. В литературе нового времени двойников находят у многих авторов, особенно в романтический и постромантический периоды, но нигде, во всяком случае в известной нам литературе, мы не нашли определения и объяснения этого явления художественной реальности.
Двойничество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В отличие от двойников-антагонистов, имеющих общие корни, персонажи карнавальных пар никогда не находятся в отношениях родства ( практически не бывают братьями) [47] Мотив невозможности родства комически обыгрывается в "Золотом теленке" И.Ильфа и Евг.Петрова. Плуты представляются "сыновьями лейтенанта Шмидта", чтобы скрыть свои мошеннические намерения. Наличие родства в глазах арбатовского начальника как бы придает маргиналам Бендеру и Шуре устойчивый статус. Однако неожиданное появление третьего "брата" Паниковского оборачивается для последнего плачевно. Это связано, на наш взгляд, с некоторым "перебором" в плутовстве. Плутовство эксплуатирует стереотипы сознания, а здесь вместо ожидаемой пары появляется тройка.
, всегда имеют разный социальный статус, разное происхождение. Но членов карнавальной пары всегда объединяет общее пространство - особая лакуна между двумя мирами, в которой они существуют и вне которой просто немыслимы. В литературе нового времени эта лакуна - на грани историко-культурных эпох. Так, Дон Кихот и Санчо Панса действуют между народной патриархальной культурой и эстетизированной высокой культурой рыцарства - с одной стороны, и меркантильной жестокой цивилизацией 16-17 веков - с другой. Робинзон и Пятница существуют на необитаемом острове, который сам по себе является метафорой экспериментальности, условности отношений цивилизации и дикости. Обломов и Захар пребывают то в изолированной от мира квартире на Гороховой, то в воображаемой идиллической Обломовке, то на даче, то на Выборгской стороне под крылом вдовы Пшеницыной. Остап и Киса из "Двенадцати стульев" ищут счастья в шатком, иллюзорном пространстве позднего нэпа, где еще теплятся надежды на личный успех.
Наличие особого пространства, как бы отграниченного от остального мира, является важнейшим структурным признаком карнавальной пары как особого типа двойничества. Если такое пространство разрушается, исчезает и карнавальная пара. Нам кажется, что разрушением особого пространства можно объяснить "странное" исчезновение верного Савельича в последних главах "Капитанской дочки" Пушкина. Родители Гринева отпускают Машу Миронову в Петербург хлопотать за Петрушу только при одном условии: она должна взять с собой девку Палашку и Савельича. По дороге Савельич и Палашка словно растворяются, и в Петебург Маша является одна. Дело в том, что особое пограничное пространство между Оренбургом и Белогорской крепостью, в котором смещались привычные функции господина и слуги ( Машу Миронову и Палашку можно рассматривать как женский вариант этой модели), сменяет официальное однородное пространство Царского Села.
Гибель вишневого сада у Чехова навсегда разлучает Гаева и Фирса. Чехов неслучайно завершает произведение трагикомической репликой забытого в старом барском доме Фирса, за которой следует знаменитый символический звук лопнувшей струны. Пара Гаев-Фирс была частью стремительно уходящей в прошлое усадебной культуры 19 века, которую и символизирует образ вишневого сада. Сад вырубается. В другой жизни патриархальный дуэт старого слуги и ребячливого барина невозможен.
Карнавальные пары предполагают особую организацию финала, в основе которой лежит идея бессмертия персонажей. Неслучайно подобные дуэты часто становятся так называемыми вечными образами, предметом интертекстуальных контактов. Физическая смерть одного или обоих персонажей ( персонажи никогда не умирают одновременно: патронируемый обычно переживает своего патрона, становясь "продолжателем" его дела) в сюжетах о карнавальных парах призвана подчеркнуть их идеальное бессмертие.
Идеальное бессмертие не обязательно включает в себя позитивное начало. В жанрах, связанных с традициями плутовского романа, финал означает неуничтожимость порока и неизбывность зла. Сюжет здесь обычно имеет концентрическую структуру, время в нем оказывается замкнутым в круг.
Яркий пример этому - советские романы 20-х годов, такие как "Двенадцать стульев", "Золотой теленок", "Зависть" Ю.Олеши. Так, сюжет "Зависти" организован как "увенчание" подонков жизни - Кавалерова и Ивана Бабичева. В романе происходит их позорное "развенчание" и осмеяние новым миром, можно сказать, целая цепочка "развенчаний" и "осмеяний", но в финале Кавалеров и Иван снова оказываются там, откуда начали свой амбициозный вояж - в кровати Анечки Прокопович. Финальная фраза Ивана как бы обозначает "запуск" нового цикла самоутверждения героев, но уже не в соперничестве с "колбасником" Андреем Бабичевым, который символизирует мощь власти, а на локальном пространстве пошлого быта.
Неуничтожимость карнавальной пары реализуется как бы помимо авторской воли, структура настолько устойчива, что буквально ведет автора за собой. Можно предположить, что активность автора проявляется главным образом на этапе художественного замысла.
Итак, взаимодополнение двойников; присущее карнавальной паре смеховое начало; патронажные отношения внутри дуэта; его особая пространственная локализация ( промежуточное положение); центробежная структура сюжета и "открытый финал", символизирующий бессмертие героев, - все это позволяет сделать предположение о генезисе карнавальной пары.
В отличие от двойников-антагонистов, здесь мы имеем дело не столько с мифологическим, сколько с мифо-ритуальным генезисом. В самом общем виде это ритуал, описывающий взаимоотношения коллектива со своим покровителем-спасителем, выступающим в роли избранника и жертвы.
Ритуальный субстрат со временем превращается в игру карнавального типа, а из нее вырастает литературный сюжет, сохраняющий смеховое и игровое начало.
В древнейших ритуалах функции будущей карнавальной пары сосредоточены в одной фигуре. Наиболее архаическая фигура - тотемный первопредок. В охотничьих ритуалах разных народов мира тотем как бы приносился в жертву самому себе для возрождения собственной магически производительной силы. Именной в этом заключается основная функция ритуальных действ, а затем и обрядовых игр многих народов Европы и Азии с медведем или быком. Таким образом, тотем осмысливается в ритуале как своеобразный патрон себе возродившемуся, а уже через это родовому сообществу. Универсальный оплодотворитель и податель пищи, тотем, символизируя коллектив и его бессмертие, в то же время от коллектива отделен, временно отторгнут. Он избранник и жертва одновременно. В дальнейшем такая роль сформирует мотив "смехового развенчания".
Развенчание - субститут убиения, смех - субститут возрождения. Ритуал принесения тотема в жертву связан с особым пространством, которое осмысливается как пространство медиативное, одновременно соединяющее и разделяющее важнейшие компоненты архаической картины мира: потомков и предков, культуру и природу, жизнь и смерть. Это ритуальное пространство является прообразом пространства праздничного: карнавальной площади, цирковой арены, стадиона, сцены, трибуны и т.д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: