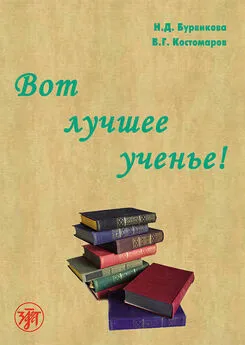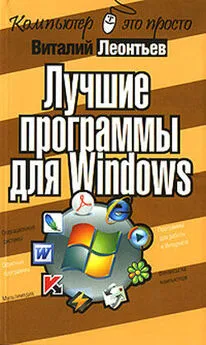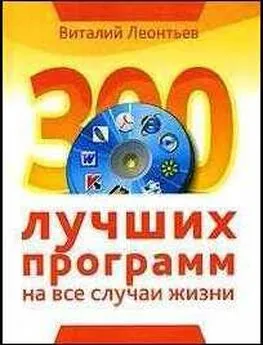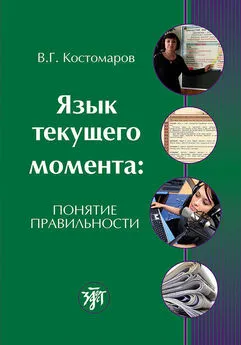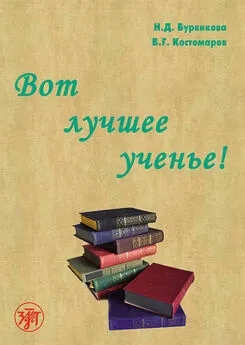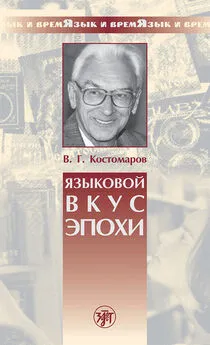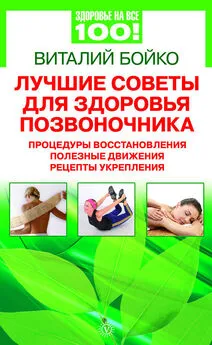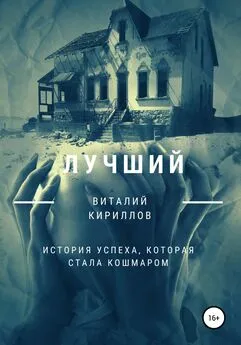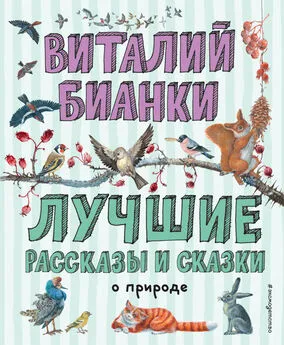Виталий Костомаров - Вот лучшее ученье!
- Название:Вот лучшее ученье!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Златоуст»
- Год:2010
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-86547-521-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Костомаров - Вот лучшее ученье! краткое содержание
Рекомендуется для широкого круга читателей.
Вот лучшее ученье! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Якобы Пушкин и его друзья-лицеисты, провожая в поход русских солдат, вступивших в борьбу с войсками Наполеона, прочитали над аркой, под которой проходили войска, следующие торжественные строки, адресованные русской армии:
Тебя, текуща ныне к бою,
Врата победны не вместят.
Когда Александр I возвратился в Петербург с победой (изрядно прибавив в весе). Он какими-то своими действиями вызвал нелюбовь лицеистов, и они адресовали ему слова Тебя… врата победны не вместят , из-за чего произошло серьезное разбирательство. Было или не было так на самом деле? – но быть могло. Лицеисты существовали в атмосфере интертекстуальности.
Теперь немного о сочетаниях слов, которые были в дореволюционное время известны всем слоям русского общества. Это слова Священного Писания. Именно цитаты из Писания, применительно к тем или иным жизненным ситуациям («Ибо сказано»), точнее, их отнесение к какой-либо ситуации положили начало действиям словесной игры, аналогичным вышеописанным проказам лицеистов. Но трансформировать священное слово решился бы не каждый – разве только тот, для кого нести это слово в массы стало профессией. Читаем «Очерки бурсы» Помяловского. Из разговоров бурсаков – будущих служителей Церкви:
Теперь, дедушка, следует двинуть от всех скорбях.
Теперь, скакая и играя веселыми ногами, в кабачару.
С уважением разные русские люди по примеру проповедей священников соотносили слова Священного Писания с той или иной ситуацией. Такой обычай был в дореволюционное время и даже во времена массового атеизма. Так, А. Битов вспоминает, что Евангелие ему довелось прочитать впервые в 27-летнем возрасте, но он его уже каким-то образом знал, через чтение незапрещенных классиков. Через чтение! Спасибо чтению. Вот так и уживалось в Советском Союзе Вечное Слово с безбожными большевистскими лозунгами.
От какого богатства мы… отказываемся?
Изобретатель способа увековечить на скале прославляемое устно, мимолетно имя вождя, одержавшего победу над недругами, вряд ли мог даже во сне представить себе, что следствием будут ежедневные многомиллионные тиражи газет или собрание книг Библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Дело не только в невероятном совершенствовании самого способа, испробовавшего восковую дощечку, кожу, папирус, пергамент, бересту, бумагу, стилос, чернила, птичье и затем стальное перо, шариковую ручку, печатный станок, пишущую машинку, линотип, принтер, ксерокс… Самый отъявленный фантазер до его появления не поверил бы, что это изобретение открыло людям возможность если не создать, то укрепить религию и государственность, установить законодательство и общественный порядок, развить дипломатию, расширить знание, усовершенствовать и облагородить словесное искусство, которое воздвигло на месте заучивания наизусть преданий, сказаний, песен величественное здание поэзии и жанрово разветвленной художественной прозы. Органическая связь письменности с религией и образованием (душеспасительным чтением) придавала ей возвышающий ореол. Перспективы письма оказались способны породить особый мир, вне которого не смогли бы развиваться общественное устройство и законодательство, производство и техника, образование и военное дело, история, философия, филология, естественные и точные науки. Все это требовало непосильного для устного запоминания хранения, анализа и передачи громадной и постоянно растущей в объеме информации. Ведь только письменность позволяет составлять и хранить обширные тексты – книги, точно их воспроизводить сначала рукописно, затем печатно и, главное, неторопливо, вдумчиво, литературно (наши предки сказали бы: книжно ) их обрабатывать.
Существенно подчеркнуть, что исторический ход событий обеспечило не письмо само по себе, а именно то, что оно вызвало к жизни и что называлось в старину книжная ученость, книжность , а затем словесность, литература , которая, конечно же, не исчерпывается беллетристическим творчеством. В недрах книжности сложились, в частности, интересующие нас стилевые явления, и вообще основное богатство, разветвленность, выразительность ведущих языков мира, в том числе и современного русского языка. Где письменность – там книжность.
Искусственный, рукотворный мир книжности, лишенный стихийности, непредвзятости, импульсивности мира реального, живет своей собственной условной, логически упорядоченной и очень активной жизнью. Этот, в нынешней терминологии, виртуальный мир книжности противопоставил себя реальному, более того, окрепнув, он стал с течением времени так сильно воздействовать на все стороны жизни, что создалась иллюзия его большей по сравнению с самой действительностью жизненной важности, впрочем, иллюзия ли? Психологически преувеличенное, поддержанное властью и церковью восприятие его отразилось в русской пословице что написано пером, того не вырубишь топором . Вера в непреодолимую божественную силу слова на бумаге дала и нынешнее выражение без бумажки я букашка, а с бумажкой человек . И вдруг за последние 15 лет катастрофически упал интерес детей к чтению, доля регулярно читающих сократилась с 50 % до 18 %.
Уже из сказанного ясно, что нынешнюю оппозицию устной и письменной форм воплощения текстов следует признать не совсем корректной, поскольку естественное воплощение языка противопоставляется его же изощренному, условному овеществлению, возникшему в силу тех возможностей, которые открыла техника фиксации, обработки, хранения, воспроизведения текстов. Вернее было бы, оставив в неприкасаемости устность как сущность звукового человеческого языка в целом, говорить о книжных (т. е. серьезных, важных, судьбоносных текстах, рожденных в виртуальном мире книжности, который возник на базе письменности и по привычке ассоциируется с нею, хотя часто воплощается устно) и о разговорных текстах (т. е. обычных, прежде всего бытовых, как бы оставленных на долю не заслуживающего серьезного внимания, пустякового естественного общения).
Питаясь естественным языком, виртуальный мир книжности бурно развивался, отходил от слепого следования ему. Этот мир сознательно впитывал достижения других языков и культур – несоизмеримо больше, чем язык разговорный. Книжный же язык, получивший у нас под немецким влиянием название литературного . складывался сознательно – иногда сознательность эта была вынужденна, в силу необходимости компенсировать отсутствие звучания и словесно воспроизвести культурную обстановку, но чаще по логике собственных законов развития.
Условия, в которых создавался литературный язык, кардинально отличались от условий устного функционирования языка, когда нет достаточного времени для обдумывания, исправления, редактирования, возврата к выраженному, физически невозможны большие по объему тексты. С возникновением книжности появилась возможность четко членить речевой поток на слова, сочетания слов, предложения и в то же время оформлять длинные периоды, сложные предложения, усложнять синтаксис без поддержки интонацией, жестами, мимикой, а также неизмеримо увеличивать, обогащать, разнообразить словарь. Только в лоне книжности могла по-настоящему сложиться стилевая дифференциация употребления языка и возникнуть сама идея стилистики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: