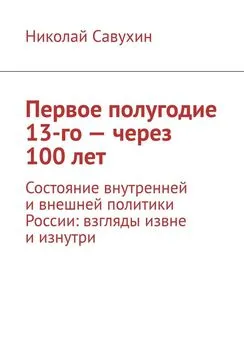Александр Бух - Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии
- Название:Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0333-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бух - Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии краткое содержание
Исследование не ограничивается частными вопросами русско-японских отношений, поскольку тематизация отношений между национальной идентичностью и внешней политикой требует критического анализа основ современной теории международных отношений. Таким образом, книга адресована не только специалистам по вопросам русско-японских отношений, но и широкому кругу ученых в области международных отношений.
Александр Бух – доцент Высшей школы гуманитарных и социальных наук при университете Цукуба (Япония). Выпускник Токийского университета (магистерская степень) и Лондонской школы экономики (докторская степень в области международных отношений).
Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Критические исследования конструкций идентичности обычно избегают дебатов о «международном обществе» и фокусируются на монологических отношениях, в которых конструкция «Я» является относительной по отношению к Другому или Другим . Вероятно, именно рационалистическая природа изучения «международного общества», его тенденция к структурализму и нормативному включению, стоящему за понятиями общих интересов, ценностей, правил и институций, не позволили критическим конструктивистам с их постструктуралистской эпистемологией и онтологией исключения заняться изучением «международного общества». Однако, как заметил по другому поводу Барри Бузан, термин «общество» сам по себе не несет «обязательно позитивной коннотации» (Buzan 2004: 145) и может просто означать, что между его членами существует определенная форма общественных отношений, к которым могут принадлежать такие негативные с нормативной точки зрения аспекты, как конфликт, дискриминация и доминирование.
Доминирование западных моделей знания в японской идентичности показывает, что Фред Халлидей в целом прав, когда говорит о существовании определенной тенденции к подчинению внутренних социальных практик политических институтов модели, определяемой как международная (Halliday 1992). Такое понимание японской идентичности не означает полного принятия понятия «мирового общества», утверждающего изоморфную природу современных национальных государств, сформированных мировыми культурными и ассоциативными процессами (Meyer et al. 1997). Институциональный подход, справедливо признавая динамическую природу национальных культур, обходит молчанием насилие и сопротивление – как на внутреннем, так и на международном уровне, – сопровождающие распространение «общемировой культуры». Как указывает Халлидей (1992), процесс гомогенизации вовсе не является щадящей интеграцией и обычно сопровождается сопротивлением и множественными конфликтами. Борьба Японии – как на внутреннем, так и на международном уровне – за статус «цивилизованной нации» посредством политических, юридических и институциональных реформ исследовалась Герритом В. Гонгом в рамках изучения роли «стандартов цивилизации» (Gong 1980 и 1984).
Перед тем как ввести в наш анализ понятие международного общества, необходимо сделать два предостережения. Во-первых, нельзя забывать о важности сосредоточенного на субъекте подхода, поскольку он допускает вариативность при интерпретации общественных сигналов. Даже если международное общество, как и общество внутри какой-то страны, является объективной реальностью, его сигналы туманны и порой противоречивы. Поэтому исследование, делающее акцент на том, как субъекты интерпретируют системные сигналы и реагируют на них, позволяет понять реальное функционирование социальной структуры «международного» поля лучше, чем когда пытаешься вывести из этих интерпретаций какую-то более масштабную структуру. Другими словами, внимание должно идти снизу вверх и фокусироваться на субъективных и часто противоречивых прочтениях социальных сигналов разными нациями, а не стремиться нарисовать всеохватную карту объективных контуров «международного общества». В контексте японской социализации в международный контекст такой подход применялся в важной статье Сёго Судзуки об отношениях между японскими политическими элитами конца XIX века, пытавшимися «цивилизовать» Японию, с одной стороны, и японским колониализмом – с другой (Suzuki 2005). Вторая поправка, которую надо сделать в отношении современной науки о «международном обществе» применительно к Японии, имеет дело с природой и временным измерением социализации Японии в международное общество.
Большинство исследований «международного общества» в связи с Японией пытаются интерпретировать процесс социализации Японии в «международное общество» начиная со второй половины XIX века как трансформацию существующего государства путем принятия западных моделей знания (Gong 1980 и 1984; Suganami 1984; Suzuki 2005). Однако этот процесс, вероятно, следует истолковывать не просто как трансформацию, а как создание современной Японии. Япония не существовала в качестве национального государства до эпохи Мэйдзи, так как все дискурсивные практики, конституирующие современную Японию и определяющие ее «внутреннее» – в отличие от «внешнего», – были представлены и усвоены именно тогда (см., например: Ravina 2005: 87). Более того, дифференциация разных народов региона, который потом назовут «Восточной Азией», долго существовавших в китаецентричном мире, началась только с приходом Нового времени (Toyama Shigeki цит. по: Tanaka 2002: 87). Это не означает, что не существовало важных связей между эпохой Токугавы и современной Японией с точки зрения обычаев, традиций и даже социальных иерархий. Очевидно, что японская идентичность современной нации возникла не на пустом месте, но основывалась на реинтерпретации и реконструкции уже существующих элементов.
Тем не менее этот процесс происходил в рамках фундаментально новых практик производства культурных смыслов и ценностей. Вместе с конструированием современного Японского государства (путем установления таких институтов, как национальная валюта, система налогообложения, армия и национальные символы – и все это по европейским лекалам) конструирование японской национальной идентичности происходило и путем адаптации западных «практик различения» как инструментов конструирования национальной идентичности. Дискурсы о Другом , конституирующем основанную на универсализме самость Японии, и другие базовые современные дихотомии (современный/варварский, рациональный/иррациональный, а также квазимедицинский дискурс нормы/патологии) были продуктом использования Японией западных моделей мысли и отношения к различию. Таким образом, замена «трансформации» «производством» Японии через ее социализацию в международном обществе – не просто упражнение в семантике. Скорее, это означает, что конструкция национального тесно связана с взаимоотношениями Японии с международным пространством с самого начала процесса ее социализации.
Другим важным аспектом социализации Японии является временнóе измерение. Связанное с Японией изучение «международного общества» обычно акцентируется на второй половине XIX века – начале XX века как на периоде, когда происходила социализация Японии в международное общество. Однако важно понимать, что эта социализация до сих пор не завершена. Как кратко отмечает Гонг, место Японии в «международном обществе» всегда было двусмысленным (Gong 1984: 200).
С одной стороны, как отмечает английская школа, Япония стала полноправным членом международного общества и приняла западные модели мысли, шаблоны поведения и дипломатической культуры. Можно показать, что даже страшная война Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе создала конфликт, в котором Япония и ее противники говорили на одном языке и разделяли общие идеи. Хотя некоторые работы – как, например, «Хризантема и меч» Бенедикт (1946) – говорили об уникальном японском менталитете, расположенном за пределами универсального, в целом борьба шла вокруг значений определенных ключевых парадигм, но не о самих парадигмах. Несмотря на набор экзотических понятий и разнообразные ссылки на древние тексты для определения японского духа, внутренний дискурс, изобилующий двусмысленностями и иногда анекдотичными противоречиями (как, например, обсуждение уничтожения англосаксонской культуры на английском языке – Shillony 1981: 150), возник внутри дискурсивных практик западного знания (см.: Kushner 2002 и 2006, а также: Harootunian 2000). Что же касается послевоенной Японии, то, как отмечает Джон Дауэр, в ней доминировала «тесная привязанность» к США – не только в политическом, экономическом и военном, но и в культурном смысле (Dower 2000: 518).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





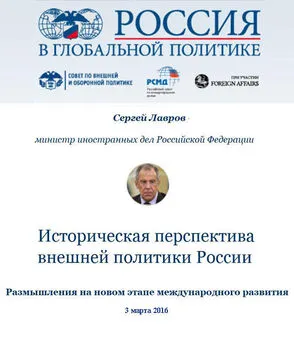

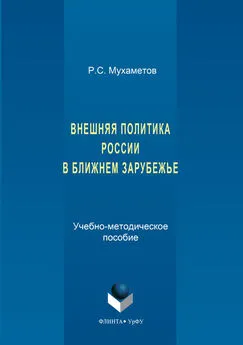
![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/1090951/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa.webp)