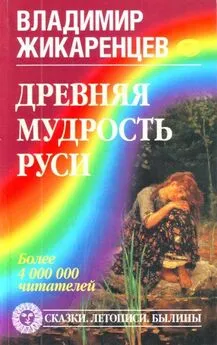Владимир Колесов - Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова
- Название:Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8465-0236-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Колесов - Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова краткое содержание
Древняя Русь наследие в слове. Мудрость слова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Розжуй-ко, чем пахнеть!
Аввакум Петров
Описание органов чувств и их функций в древнерусских источниках отражено весьма противоречиво. Долго сохраняется синкретизм словесных обозначений. Во второй половине XVII в. протопоп Аввакум легко пользуется сочетаниями вроде приведенного в эпиграфе: смешивая вкус с запахом, он имеет в виду слух и зрение (Посмотри да послушай!), но при этом обращается к рассудку и мысли (Да пойми ты!). Такое словоупотребление можно было бы принять за метафору, но у Аввакума метафор нет — он предпочитает метонимии; вся образность языка этого автора ориентирована на архаические типы мышления «от чувств и вещей». Впрочем, подобное смещение смысла по функции характерно для многих языков, отражаясь, между прочим, и в греческих текстах, и, несомненно, выражает древний синкретизм органов чувств и их функций. Характерно в этой связи отсутствие указаний на осязание. Подобно тому как зрение — не (телесное) чувство, так и осязание — не идеально.
Органы чувств, именуемые вкусом, запахом, слухом и зрением, не все одинаковы, — утверждает «Шестоднев», но зависят в своем распределении от многого: если хочешь чего вкусить, то, пока не прикоснешься языком, не ощутишь, не осознаешь вкуса; ибо это чувство крепкое (сильное, интенсивное), но не может различать издалека, тогда как запах различают и издалека, слухом — еще дальше слышат, но зрение и слуха «обширней» («зракъ слуха скорѣе есть»), так что видеть можно вдаль и с горы высокой; но лучше зрения ум, он и яснее («но умъ и зрака скорѣе есть и яснѣе»), потому что способен постичь и небо, и землю, и море, и всё, что в нем обретается; по этой причине умом называют и Бога (в греческой традиции Νους ‘ум’) (Шестоднев, л. 35 об.-36).
Слово осязание — церковнославянизм искусственного происхождения, в древнерусском языке ему соответствовало слово посязание , не отвлеченный термин, как осязание , а вполне конкретное указание на прикосновение к чему-либо. Еще в XVII в. посязати значит ‘прикасаться’, как и равнозначное ему посягати. У Иоанна Экзарха посазание Фомой ребер Господних — это ощупывание путем касания; в греческом оригинале слово αφή ‘прикосновение, схватывание’. Никто не может дойти до рая, «понеже около его есть огненая стѣна, досязаядо небеси» (Луцидарий, с. 47).
Соотношение форм посагати / посязати — то же, что и в именах, образованных от того же корня: стега → стежка / стезя ; фонетическое расхождение форм произошло давно, уже успели образоваться промежуточные формы типа посягати. Каждое изменение формы закрепляло какое-то новое значение, возникшее в процессе семантического расхождения и очень важное для обиходной речи. Общий смысл корня *sag- / sęg- (второй вариант с носовым «а») — ‘застегивать’, объединяющий разрозненные части в общем целом. Исконное значение исходной глагольной формы посагати ‘вступать в брак’, следовательно посягати ‘покушаться на...’, даже как бы ‘замыслить’, откуда, с изменением согласного в корне, посязати ‘касаться чего-либо’ (в случае женитьбы — «кого-либо»). В русских говорах посаг ‘свадьба’. Отсюда и посаженые гости на свадьбе (со стороны невесты), да и в литературном языке сохранились слова этого корня, в древности связанные с тем же обрядом: присягати ‘при-коснуться’, присяга (клятва на верность), до-сягатъ ‘доставать, хватать (тянуться рукой, касаясь)’ и пр. Есть еще архаическое слово сяг ‘расстояние в пределах вытянутой руки’. Старая мера сажень (в древнерусской надписи 1068 г. сяжень ) ‘три аршина’ определялась пространством, которое можно измерить протянутой рукой (т. е. коснуться); руки были разной длины (в нашей истории были и «долгорукие»), да и простирались они в разные стороны, так что и сяжени могли быть разными. Косая сажень — от кончика пальцев вытянутой правой руки до пятки левой ноги, двумя руками в размах — маховая сажень и т. д. Русский стиль плавания — сажёнки — размахи руками с погружением их в воду.
Посаг — вступление в брак, «застегивание» брачующейся пары в семейную у-пряж-ку, после чего муж и жена (уже совместно как мал- жена ) и становились су-пруг-ами, т. е. сопряженными в пругло — ‘силок для ловли зазевавшихся птичек, ловушка’. «Брачиту жену, — говорит один автор, — посягають» (Козма, с. 120, 143). Как это происходит, красочно описывает средневековый «Чин свадебный», сохранившийся в одной из редакций «Домостроя».
Не раз писалось, что греки большое значение придавали зрению, латиняне — вкусу (как можно судить по их лексике): «...Это различие ощущений как источника идей характеризует эти два народа, которые играли такую большую историческую роль: один — в эволюции мысли и в ее поэтическом и пластическом проявлении, а другой — в выработке права, в суровом уменьи управлять людьми и народами, и в объединении античного мира» (Лафарг, 1931, с. 32). В египетских идеограммах человек, подносящий руку ко рту, — символ мысли и мышления. Греческая идея соотносится со зрением, а латинский вкус с sapientia ( sapio ‘иметь вкус или запах’). Носители западной культуры минимально пользуются признаками запахов в результате культурных запретов (связаны с выделительными функциями, которые не способны помочь при ориентировании в пространстве) (Брунер, 1977, с. 100; ср. с. 276).
Для средневековых славян таким наводящим на размышления чувством было скорее всего осязание. Оно непосредственно связано с действием, с трудом и прикосновением. Этого не скрывает и Иоанн Экзарх, в «Шестодневе» неоднократно возвращаясь к утверждению: «Истиннѣйше же чювьство всего живота (всей жизни) человекъ имать, еж(е) посязати и разумѣти от посязания, таче потомъ (и только потом) и вкусъ, и при другыхъ чювьствѣхъ» (л. 240а). Конечно, это не значит, что славяне слепо бродили по миру, прикосновением к вещам постигая их суть. Речь идет об исходном, именно «наводящем» чувстве. Зрение для них столь же важное чувство, поскольку «основу ориентировки человека в его среде составляют именно зрение и руководимое им осязание: рука и глаз образуют для человека мир вещей... и именно глаз, очевидно, при этом связываетпереживания различных людей. Остальные чувства подчиняются ему, координируются с ним и через него в свою очередь попадают в сферу общего понимания людей» (Богданов, 1910, с. 14).
Может быть, поэтому в народных обозначениях органов чувств осязания нет. Осязание представляет собою как бы точку отсчета, естественный субстрат для всех остальных органов и их ощущений, что прекрасно отражает и общее отношение к познавательному процессу, издавна характерному для сознания славян: мало видеть или обонять, следует еще и пощупать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: