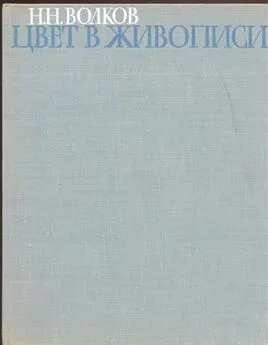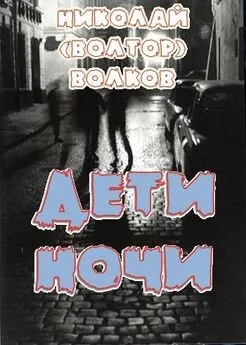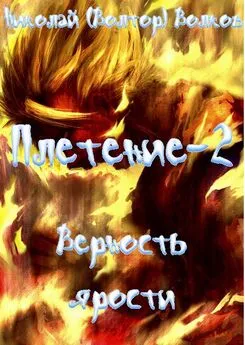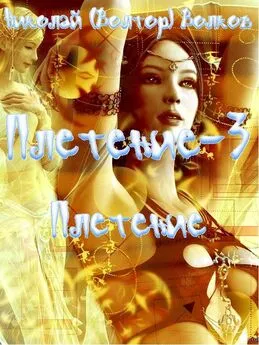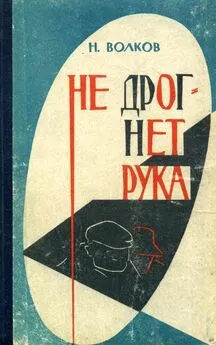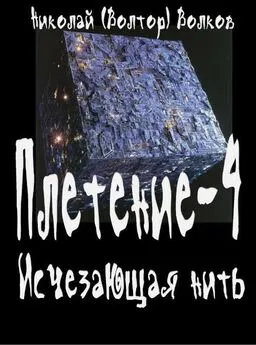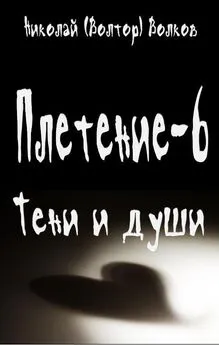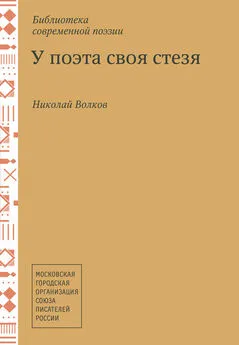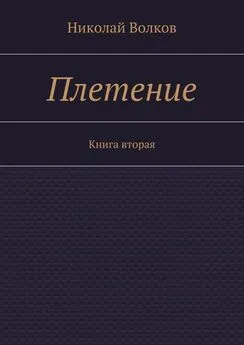Николай Волков - Цвет в живописи
- Название:Цвет в живописи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Искусство»
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Волков - Цвет в живописи краткое содержание
Москва, 1965 год
Цвет в живописи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но именно противоречия, заложенные, в частности, и в цветовом строе картины, существенны для нашей темы. Изложенный ниже анализ построен иначе, чем анализы, собранные в предыдущих главах. Нас будут интересовать цветовые открытия, содержащиеся в многочисленных этюдах художника, и их преломление в картине. Для теории колорита такой путь анализа так же возможен, как и анализ завершенных колористических концепций.
В. Стасов не считал А. Иванова колористом 3. Это мнение разделяли многие. Но даже беглое знакомство с этюдами художника заставляет пересмотреть оценку Стасова.
Отношение к цвету как важнейшему образному средству живописи, желание цвета, совершенно чуждое академическим традициям, сказалось уже в том, что Иванов искал встречи с творениями великих венецианцев и по достоинству оценил их.
Изучение Тициана, Веронезе, Тинторетто стало для него «откровением колорита». После посещения Венеции в 1834 году померкли академические авторитеты — Гвидо Рени и Доменикино 4.
Тяготение к венецианцам и их продолжателям характерно для колористов XIX и XX веков. У венецианцев учился цветовому построению картины Сезанн. Веласкес был кумиром для Эдуарда Мане. Венецианцы и Веласкес вдохновляли Сурикова. И каждый из названных художников нового времени открывал новые колористические ценности благодаря стремлению понять сущность традиций Тициана и их дальнейшее развитие, понять то, что мы назвали образно дифференцированием и интегрированием цвета. Конечно, Иванов не мог ограничиться подражанием Тициану. Он хотел прежде всего понять принцип и затем увидеть цвет в натуре. «Венецианский колорит» в эскизах к картине был лишь обозначением пути. Ведь «откровение колорита», по красивым словам самого художника, было вверено Тициану «отечественной природой» 5.
И автор «Явления мессии» создает собственное глубокое видение цвета, изучая в этюдах берег моря и горные дали, деревья, каменистую землю.
Для русского искусства Иванов открыл эпоху пленэра. И в этом — новое свидетельство его колористического дара.
Проблема пленэра — это проблема отношения к цвету прежде всего. Открытие пленэра было едва ли не самым радикальным переворотом в отношении художников нового времени к цвету. Проблема пленэра заслуживала бы отдельного труда. Я не представляю себе современного видения цвета без понимания пленэра и всего, что с ним связано в истории живописи.
Здесь важно подчеркнуть, что понимание пленэра у Иванова было глубже и разностороннее, чем у французских пленэристов того же времени — Диаза, Руссо и даже Коро. В отдельных этюдах и некоторых акварельных эскизах на библейские темы художник пошел дальше собственно пленэризма, предвосхитив колористические системы, возникшие позднее. Пленэр обогатил его видение. Но пленэрные опыты никогда не затемняли для него главного тициановского принципа — единства предметного цвета и цветовой среды. Известный натюрморт «Драпировки на круглом столе» (Третьяковская галерея) кажется написанным в XX веке. Мягкость мерцания красок, связанных единством среды, уступила здесь место аккорду предметных цветов, подчеркнутых серыми и черными мазками, связанных внутренне, а не внешне. Такой огромный путь мог совершить лишь человек с могучим даром колориста. И тем не менее «Явление Мессии» воплотило скорее путь цветовых поисков, систему разных задач, чем целостный цветовой строй.
Если сравнить «Явление Мессии» с ранними произведениями Иванова, работами К. Брюллова и Ф. Бруни и даже с пейзажами Сильвестра Щедрина и М. Лебедева, сравнить по общему впечатлению, непредвзято и не вникая в отдельные куски живописи, станет совершенно очевидной особенность пейзажной среды в картине Иванова — натуральность ее. Как будто художник откровенно добивался «иллюзии жизни». Конечно, это так и было. Соединимость иллюзорного изображения с идеей и идеалом казалась Иванову аксиомой. Историческая картина была для Иванова рассказом о возвышенном, но реальном событии. Его желание увидеть Палестину не осуществилось, но он возвращался к мысли о поездке в Палестину не один раз.
Натуральны до иллюзии и обнаженная спина старика, и мальчик, выходящий из воды, и фигура Иоанна Крестителя, и фигура раба. Идеальное открывается в природном, естественном.
Но в том-то и дело, что, чем серьезнее ставится задача «подражания природе», — а Иванов ставил перед собой эту задачу с чисто русским напором, — чем глубже становилось изучение природы в этюдах, тем отчетливее вырабатывались система отбора, последовательность и способ восприятия. Страстное стремление познать природные гармонии — лучшее лечение от пассивности восприятия, ведущей к безликому натурализму. Натуралист не видит природы, потому, что не видит ее связей и не понимает ее изменчивости, заставляющей искать систему связей. Натуралист склеивает непрочным клеем чисто внешнюю, бессвязную последовательность наблюдений. Потому-то он предпочитает прочности связей число деталей.
В развитии французской пленэрной живописи XIX века страстный поиск правды цвета привел к революции в Способе видения, к осознанию неизбежности новой цветовой концепции (импрессионисты). А эта революция повлекла за собой осознание цветовой системы картины как той системы отбора, посредством которой художник учится видеть природу. Александр Иванов — один, в чуждой его устремлениям среде — прошел путь революционного преобразования видения в поединке с природой.
Очень жаль, что наследие Иванова долгое время лежало как бы в стороне от путей русской живописи. Его картина, несмотря на сочувствие Крамского и Репина, не стала программой художественного движения. А этюды художника и поздние эскизы, в которых действительно воплотилось новаторство, и в частности новаторство цвета, оставались долгое время, да, пожалуй, и сейчас остаются только личным наследием Иванова. Даже в этюдах Поленова к «Грешнице», аналогичных по общей задаче ивановским этюдам, трудно найти отражение цветовых открытий Иванова. Вплоть до Левитана школу русского пейзажа возглавляли такие «неколористы», как Шишкин и Айвазовский, и такие наивные колористы, колористы по чувству, как Саврасов, Васильев.
Цветовой мощью языка своей живописи Суриков и Врубель были лишь в малой степени обязаны Александру Иванову.
Задачи пейзажных этюдов Иванова возникали в процессе работы над главной картиной. Верхнюю часть картины занимает пейзаж с грядой гор и узкой полоской равнины, поросшей впереди деревьями. Те же цепи гор мы находим в двух этюдах «Понтийские болота» (Третьяковская галерея и Русский музей). На этюде Русского музея передний план проработан предметнее и начинается с темных групп деревьев. Этюд Третьяковской галереи кажется более монолитным и принципиальным. Болота расчленены лишь незаметными издали темно-синими точками деревьев, образующих диагональные линии, уводящие глаз в глубину.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: