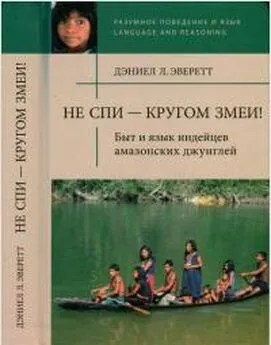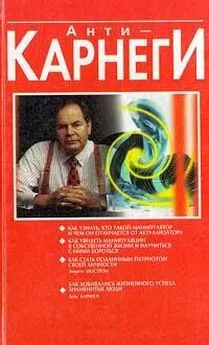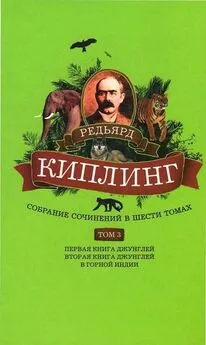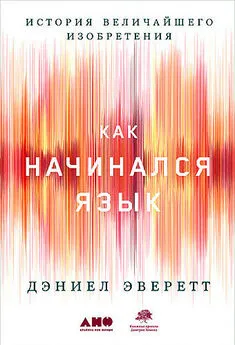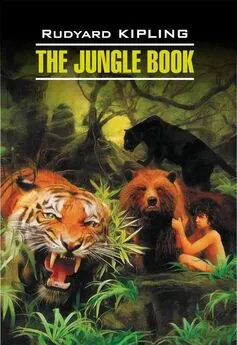Дэниел Эверетт - Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей
- Название:Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэниел Эверетт - Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей краткое содержание
Эта книга, которую можно отнести одновременно и к мемуарам, и к лингвистическим работам, представляет собой интересный взгляд на природу языка, его связь с мышлением и культурой.
Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во всех языках налагаются похожие ограничения на значение слов. Например, ни в одном известном нам языке нет глагола, которому для полного раскрытия своего значения потребовалось бы больше трех (в некоторых теориях утверждается, что четырех) существительных. Глаголы в том или ином языке могут появляться без имен. Могут встречаться имена, не обозначающие ничего (экземплификанты, т. е. своего рода временные заместители существительного, ср. it ‘оно’ в предложении It rains ‘Идет дождь’, букв. ‘Оно дождит’). Есть глаголы, которые сочетаются только с одним существительным ( John runs ‘Джон бежит’), с двумя ( Bill kissed Магу ‘Билл поцеловал Мэри’) или даже с тремя ( Peter put the book on the shelf ‘Питер положил книгу на полку’), но не более [83] Здесь автор, по-видимому, следует за классификацией валентностей по Л. Теньеру (см.: ТеньерЛ. Основы структурного синтаксиса. М., 1988) (прим, пер.).
. Предложение * John gave Bill the book Susan (букв. ‘Джон дал Билл книга Сьюзен’) уже невозможно. Чтобы употребить четыре существительных или больше, нужно несколько глаголов, несколько предложений или предлоги, ср.: John gave the book to Bill for Susan ‘Джон передал книгу Биллу для Сьюзен’ [84] Английские предложения в повелительном наклонении, разумеется, обычно не содержат подлежащего, ср.: Run! ‘Беги’. Однако лингвисты едины во мнении, что здесь есть подразумеваемое подлежащее, потому что в повелительном наклонении субъект — это всегда ты / вы. Когда я говорю: «Run!» — я имею в виду не то, что все должны бежать, а то, что бежать должны вы (прим, автора).
.
До современной теории о происхождении грамматики из определенного участка мозга, ответственного за ее возникновение, господствующими (в течение недолгого времени) были бихевиористские подходы. Они отражены, например, в работах Б. Ф. Скиннера.
Но, хотя бихевиоризм, по-видимому, так и не смог объяснить, как мы учим языки и почему у них наблюдается известное сходство (эта неспособность связана с тем, что в бихевиоризме никак не учитывается мыслительный процесс, когниция), теории, основанные на универсальной грамматике, в этом отношении оказались ничуть не лучше. Причины разнообразны. Во-первых, в период между этими теориями появились превосходные новые научные идеи, которые не основываются ни на крайних взглядах Скиннера (язык как всего лишь одна из разновидностей человеческого поведения), ни на крайних взглядах Хомского (грамматика как нечто, обусловленное генами). Есть и другие возможные объяснения, включая логические требования к общению в сочетании с природой общества и культуры.
Одним из ведущих научных коллективов, занимающихся языком и проблемой его происхождения на основе принадлежности к обществу, является исследовательская группа психолингвистов под руководством Майкла Томаселло [85] Майкл Томаселло (род. в 1950 г.) — американский психолог, психолингвист и когнитивист. Автор работ о происхождении когнитивных способностей человека, освоении языка и когнитивных способностях приматов (прим. пер.).
(Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка, Лейпциг, Германия). Исследования Томаселло и соавторов не отягощены допущениями бихевиористов и хомскианцев.
Еще одна важная причина утраты влияния теорией Хомского заключается в следующем: многие чувствуют, что в настоящее время она стала слишком расплывчатой и не поддающейся проверке, чтобы воспринимать ее серьезно. В кругах лингвистов многие считают, что современная исследовательская программа Хомского практически бесполезна для их разработок.
Третья проблема языковой теории Хомского — и та тема спора, которую я хочу поднять, — заключается в том, что языки не так похожи друг на друга, как полагал Хомский, и у них есть глубокие различия.
Если бы пираха были философами и лингвистами (в западном смысле), они бы вряд ли пришли к лингвистической теории, похожей на теорию Хомского. В отличие от картезианского понятия креативности (способности порождать новые идеи), культурные ценности пираха сужают диапазон допустимых тем разговора и способов их выражения, ограничивая их лишь сферой непосредственного опыта.
В то же время пираха очень любят поговорить. Я очень часто слышу от тех, кто приезжает в их селения, что пираха чуть ли не все время говорят друг с другом и смеются. Для их поведения нехарактерна сдержанность, по крайней мере в их родных селениях. Лежа в хижинах вокруг очагов, в которых всегда поддерживается огонь, они то и дело запекают в золе клубни картофеля или маниоки. Они ведут разговоры о рыбалке, духах, недавнем приезде чужеземца; обсуждают, почему в этом году урожай бразильского ореха меньше и т. п. Затем они прерываются, достают из огня горячую картофелину, чистят ее и возобновляют разговор, тщательно разжевывая и пищу, и предмет обсуждения.
Просто тем для разговора у них немного. Но так же обстояли дела и в моей семье на юге Калифорнии. Когда я рос, мы говорили о коровах, об урожае, о боксе, о барбекю и разных злачных местах, кино и политике. Других тем для беседы было немного. «Картезианская креативность» не заинтересовала бы моих родных так же, как она не интересует пираха. Может быть, она нужна лингвистам, коль скоро темы их разговоров намного разнообразнее? Не думаю. У большинства известных мне лингвистов — да что уж там, у большинства известных мне университетских преподавателей — диапазон тем для разговора (если он есть) не шире, чем у пираха. Чаще всего лингвисты говорят о лингвистике и о других лингвистах. Философы беседуют о философии, философах и вине. В целом наша профессия и наши коллеги — это те параметры разговора, в рамках которых действуем почти все мы. Разумеется, чтобы можно было говорить обо всем этом в пределах одного языка, наш язык должен быть пригодным для всех научных дисциплин, профессий, ремесел и пр.
Мы часто думаем, будто наши знания всегда с нами, как если бы то, что мы узнали о восприятии и познании мира в Сан-Диего, позволяло нам полноценно воспринимать и понимать мир в Дели. Однако многое из того, о чем мы думаем, — это местные сведения, основанные на местном взгляде на жизнь. В новых условиях их использование нелегче, чем попытка включить электроприбор, рассчитанный на напряжение 110 вольт, в сеть с напряжением 220 вольт. К примеру, если языковед, изучающий теоретическую лингвистику в современном университете, отправится после обучения в экспедицию, чтобы описывать языки в полевых условиях, то он вскоре обнаружит, что его теории не полностью подходят к обнаруженному языковому материалу. Теории могут быть полезны, если их корректируют на месте. Если этого нет, то они превращаются в прокрустово ложе, на котором факты растягиваются или отсекаются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: