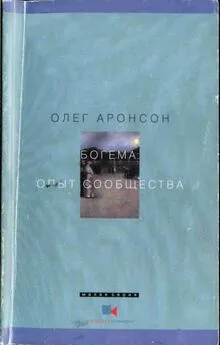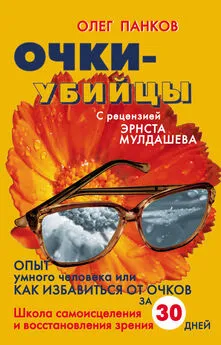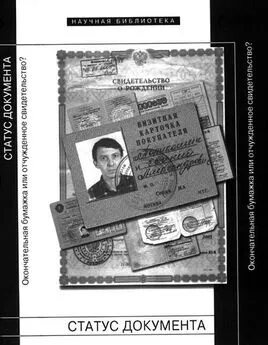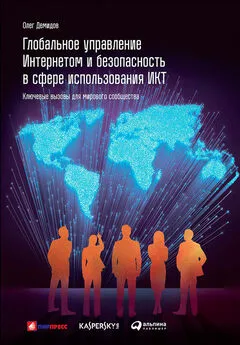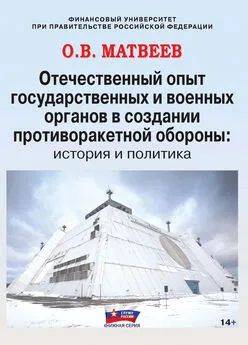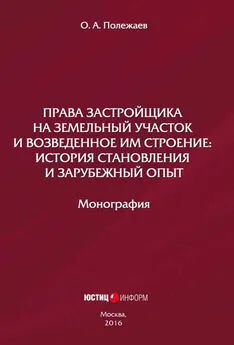Олег Аронсон - Богема: Опыт сообщества
- Название:Богема: Опыт сообщества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. — 96 с
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7333-0203-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Аронсон - Богема: Опыт сообщества краткое содержание
Богема: Опыт сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эти две координаты отношения к языку повседневности (условно — беньяминовская и хайдеггеровская) определили тот структуралистский интеллектуальный бум, пик которого пришелся именно на 60‑е годы. Интерес исследователей переместился из области знания, с объекта исследования как такового, в сторону функциональных отношений между различными объектами, в сторону так называемых знаковых систем. Не случайно все меньше и меньше становилось привилегированных объектов для анализа. Ценностью начинают обладать не только авторские произведения, но и газетные хроники, рекламные ролики, популярные кинофильмы, модные журналы, клише, которые в них себя обнаруживают. Подобные «мифологии» общественного сознания анализирует Ролан Барт. Мишель Фуко (как и, например, представители школы «Анналов») совершает попытку отыскания таких пластов повседневности, которые всякий раз исчезают при смене исторических эпох, оказываясь погребенными под грудой исторических фактов.
В отличие от марксизма, интерпретировавшего будни современного человека исключительно исходя из экономических отношений, структуралисты попытались расширить возможности этого языка. В результате сам язык стал доминантой их исследований. Повседневность в ее социальном, эстетическом или психическом измерении обрела символический характер и этот символический характер резко противостоял той политике языка, которая постоянно придавала смысл всем окружающим нас вещам. И Барт, и Фуко, и Альтюссер, и даже Лакан, фактически стремились к выявлению функционирования аполитических знаков и отношений между ними, которые в силу своей будничности и слабой выраженности легко оприходуются политикой. Непосредственно соприкасаясь с языком, политика скрывается в тех дискурсивных практиках, которые и формируют порядок повседневности. Однако, как показал Фуко, высказывания, принадлежащие порядку повседневности, не состоят из знаков, но, напротив, производят те самые знаки, через которые затем проходят политики знания, понимания и интерпретации. Попытка выявления доинтерпретативного состояния высказываний, когда они еще не приняли участия в производстве дискурса, есть то, что Фуко назвал «археологией». Это, собственно, и есть выявление того типа повседневности, в котором формируется определенный дискурс (как научный, так и художественный, и политический). Всякая повседневность, столетней давности или вчерашнего дня, требует для себя археологии, поскольку оказывается моментально скрыта слоем политически и практически «актуального» настоящего, настоящего, наделенного смыслом. Смысл повседневности может быть обретен не в каком — либо конкретном факте, но в серии повторяющихся событий, кажущихся бессмысленными: в оформлении витрин, форме каблуков, в прическах, книжных шрифтах, в планировке комнат и кабинетов, в шлягерах, звучащих из магнитофонов, то есть во всем том, что требует для себя интенсивности городского существования, его повторяемости, регулярности и механистичности, и в том, что предполагает «других, тех, с кем это существование разделено абсолютно. Так, реклама и телевидение — это такие способы выражения, которые стремятся (и в этом их максимальная эффективность) совпасть с самой повседневностью, с самой реальностью мира настолько, чтобы уже невозможно было бы отличить мир от его информационной копии. Можно даже сказать, что ускользавшая от взгляда аналитика повседневность именно в современных средствах массовой коммуникации получила способ своего выражения, обрела свои образы и знаки. И это началось с появления кино. Именно в кино эстетическое удовольствие сменилось коммуникативным. Именно в этом зрелище, без которого современный город немыслим, человек нормы обрел общность удовольствия, удовольствие разделяемое с другими. Кино — это пространство абсолютного единения в удовольствии и разъединения в отчуждении. Это пространство, в котором знаки и образы воздействуют как сама реальность, где переживание оказывается всякий раз не только твоим, но и переживанием другого, от твоего неотделимым. Пьер Паоло Пазолини называл это «несобственной прямой субъективностью», когда невозможно определить «кто говорит», когда сама реальность в навязчивых образах восприятия становится «говорящей». В 60‑е годы Жан — Люк Годар попытался обнажить эти образы как идеологические штампы с помощью радикального остраняющего монтажа действия. Этот жест он назвал политическим, хотя сейчас видится, что «политического» в нем остается все меньше и меньше. Слова «гошизм», «маоизм» стали достоянием истории, а сам жест, данный в его кинематографе, как и в фильмах, газетных эссе, интервью, выступлениях на площади других его современников, обнажает для нас сегодня то, что скрывалось за политической риторикой: повседневность. А точнее, первые «революции повседневности», бунты, ставшие свидетельством того, что мышление в его постоянной несвоевременности и сама современность неожиданно совпали. И эта противоречивая соединенность и по сей день дает нам шанс, находясь в рутине будней, не увязнуть в пространстве политического окончательно.
Генеалогия клише («Мулен Руж!» Бэза Лурмана)
После фильма «Ромео + Джульетта», где Бэз Лурман перенес действие шекспировской трагедии в современность, он совершил шаг куда более интересный — попытался наполнить современностью прошлое. И все это было бы только лишь еще одним его трюком, если бы не сама тема — Moulin Rouge, знаменитое французское кабаре, ставшее символом того самого бесконечного спектакля, безотчетного развлечения, которое сегодня с успехом продолжает шоу — бизнес, без которого уже немыслимо существование современного общества. Новый «Мулен Руж!» не первая попытка обращения к этой теме. Можно вспомнить и фильм с тем же названием режиссера Джона Хьюстона, решенный в жанре мелодрамы, в центре которой была драматическая жизнь художника Тулуз — Лотрека, и, конечно, знаменитый «Французский канкан» Жана Ренуара, где кинематографически воссоздавалась история возникновения этого первого в своем роде массового музыкального шоу. В картине Бэза Лурмана история в каком — то виде несомненно присутствует: в качестве персонажей возникают и Тулуз — Лотрек, и композитор Эрик Сати, но их нынешняя известность абсолютно никак не акцентирована режиссером. Они — в числе прочих персонажей, и столь же анонимны, как и все остальные. Их культурная слава стерта режиссером и для зрителей, которые о них ничего не знают, и для более просвещенной публики. Есть у Лурмана и обязательная мелодрама, но она слишком жанрово опознаваема, крайне упрощена и сюжетно, и психологически, к тому же настолько театрализована, что можно лишь говорить, пожалуй, только о романтической схеме, которую вместе с кабаре и его персонажами режиссер извлекает из того самого времени, из времени «поэтизации низкого», когда разношерстная деклассированная богема была романтизирована писателями и композиторами, когда ее история писалась не фактами, а вымыслом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: