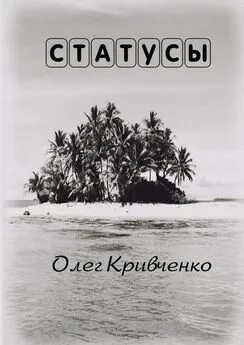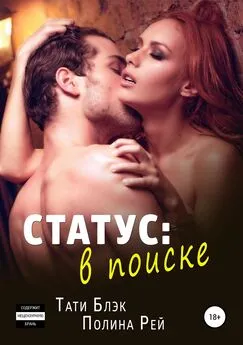Олег Аронсон - Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?
- Название:Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0006-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Аронсон - Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? краткое содержание
Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Источник трансформаций нужно было искать в интенсификации бюрократической власти, чувствительной к деталям, и, как следствие, в изменении масштаба регламентации, в повышении значимости отдельных письменных операций в системе государственного управления. Если в Петровскую эпоху публиковались и утверждались в законодательном порядке лишь отдельные формуляры, то с начала XIX века эта процедура становится правилом для всех канцелярских образцов. Например, в том же Общем учреждении министерств было не только определено, сколько журналов для входящих дел надлежит иметь в канцелярии департамента (два — общий и частный), но и на сколько частей эти журналы должны быть разделены (на три) для того, чтобы вносить в них разные бумаги (высочайшие именные указы, обыкновенные и секретные бумаги).
Острая реакция Николая Карамзина на «мелкотравчатость» реформ государственного управления позволяет выявить разрыв между порядками бюрократического письма, существовавшими до и после создания министерств: «Издают проект Наказа министерского; что важнее и любопытнее? Тут без сомнения определена сфера деятельности, цель, способы, должности каждого министра! Нет. Брошено несколько слов о главном деле, а все остальное относится к мелочам канцелярским: сказывают, как переписываться министерским департаментам между собою; как входят и выходят бумаги; как государь начинает и кончает рескрипты» [53] Карамзин Н. М. Слезы катятся при мысли о бедствиях России // Источник. 1998. № 1. С. 11.
. Судя по всему, на протяжении коллежской эпохи запись оставалась важной, но все же технической операцией: она позволяла фиксировать, уточнять, приводить административное действие в соответствие с нормой, устанавливать над ним контроль. В министерскую эпоху репрезентативный статус бумаги принципиально изменился — письмо было опознано в качестве самостоятельного, полноценного, а зачастую и самодостаточного государственного действия. С этой — абсолютно чуждой Карамзину — перформативной точки зрения в «мелочах канцелярских» можно было разглядеть фундаментальное основание бюрократической власти и базовый механизм ее воспроизводства.
Неудивительно, что внутри министерского порядка круг забот профессионального чиновника был предельно дифференцирован и соотнесен с системой координат «письмо — чтение». Общим учреждением министерств производство канцелярской бумаги было разбито на операции и разделено между чиновниками. Процесс включал в себя подготовку черновых бумаг (этим занимались канцелярские служащие под руководством секретаря, сам секретарь, а в наиболее ответственных случаях — столоначальник); правку чернового варианта (столоначальником или начальником отделения, в исключительных случаях — директором департамента); «перебеление» (задача писца); представление на подпись начальнику (протоколист, директор канцелярии); подписание; снятие копии (копиист). Дела назначались «к составлению справки», «к докладу», «к изготовлению выписок», «к общему сведению (соображению)», «к изготовлению копий» или «экстракта» (краткой справки) и т. д. Производство дела предполагало административное планирование («внесение в роспись нерешенных дел»); сбор справок и составление выписок; необходимые сношения с инстанциями; подготовку заключения, «подтверждение по бумагам» (в присутствии — подготовку к докладу); изготовление решения с учетом замечаний (в присутствии — составление протокола заседания и изготовление по нему решения); «назначение исполнения» (резолюцию); журнальные записи. Таким образом, письмо стало пространством осуществления государственного управления, а письменная операция, будь то регистрационная пометка, снятие копии с документа, изготовление выписки или резолюция, — единицей административного усилия.
Воспоминания чиновников о служебных занятиях тоже полны клишированных описаний письменных операций («бесконечная скрепа», «фабрика подписей», «со страхом ожидал правки» и т. д.). Порою в них проступает не всегда понятный современному наблюдателю моральный порядок письменных отношений. Так, например, правка текста — главного продукта усилий профессионального бюрократа — была делом щепетильным. Петербургский чиновник Василий Инсарский с обидой рассказывает о действиях своего столоначальника: «Он до того перемарал все, что не оставил ни строки. Оскорбительно!» [54] Инсарский В. А. Записки // Русская старина. 1894. № 1. С. 530.
. Одним словом, для современников эпохи учреждения министерств «письмоводство» и гражданская служба были тождественны. Александр Пушкин, подчеркивая свою удаленность от служебных дел, обращается к Александру Казначееву: «Семь лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношениях ни с одним начальником» [55] Пушкин А. С. Письмо Казначееву А. И. (Вторая черновая редакция), 22 мая 1824 г. // Пушкин А. С. ПСС: В 10 т. Л.: Наука, Ленинградское отделение. Т. 10. С. 70.
. Положительный отзыв об известном администраторе бароне Модесте Корфе содержит перечисление его успехов в канцелярской деятельности: «Порядок делопроизводства был доведен при нем до совершенства. Дела решались безостановочно; во всех канцелярских отправлениях господствовала величайшая точность; переписка бумаг отличалась щегольским изяществом; в должность писцов принимались искусные каллиграфы» [56] Варадинов Н. М. История Министерства внутренних дел. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1858. Т. 1. С. 424.
.
Показателем административных успехов была скорость решения дел, скрупулезность в изготовлении бумаг и канцелярская эстетика, что подтверждается «бумажным» характером пометок Николая I на министерских документах: «надо было отвечать только сим», «начать нужно было тут», «писано, как следует», «писано совершенно противно всем правилам, ибо № не выставлен, на который следует отвечать» [57] Резолюции императора Николая Павловича на бумагах Департамента государственных имуществ // Русская старина. 1901. № 6. С. 493.
. Для средних и низших чиновников критерием оценки их деятельности было количество бумаг в столе, определяемое реестром: «Если в столе бумаг было меньше 12 в неделю, то это считалось признаком, что в этом столе или вообще мало дела, или занятия идут крайне медленно» [58] Веселовский М. Между строками одного формулярного списка // Русская старина. 1881. № И. Цит. по: Писарькова Л. Российский чиновник на службе и дома // Человек. 1995. № 3. С. 137.
. Самодостаточность официальной письменности породила особый тип чиновника, «предрешавшего заглазно все местные потребности России и способы их исполнения только канцелярским порядком» [59] Из воспоминаний Г. И. Мешкова // Русская старина. 1903. № 6. С. 14.
. Режим тотального бумажного опосредования административной активности, в рамках которого «управлять» означало «составлять бумаги» (и наоборот), не только поддерживал особый строй профессиональных занятий чиновников, но и способствовал объективации и аккумуляции власти в канцелярской бумаге [60] Уже на другом — советском — примере о силе и исключительном символическом капитале, который обеспечивали документы и способность их изготавливать, вспоминает мемуарист. От беженцев из Белоруссии в самом начале войны он услышал историю о втором секретаре райкома партии, которая имела доступ к фабрике партийных документов: «И подошла к сейфу. Достала портфель, а в портфеле чистые партийные билеты и райкомовская печать. Вот она — сила, силища, — размахивала она печатью. — Да, я на них (партбилетах чистых, а потом „хозяйкой“ выписанных на нужного ей человека) наркомов, генералов и секретарей обкомов наделаю. Да я… Медсестра, другие беженцы и мы отлично понимали, о какой „силе-силище“ говорила „хозяйка“. Однако сегодняшнему поколению это может быть не совсем ясно». См.: Бейлинсон В. Советское время в людях. М.: Новый хронограф, АИРО-XXI, 2009. С. 94.
— одной из важнейших составляющих системы бюрократической документности.
Интервал:
Закладка:
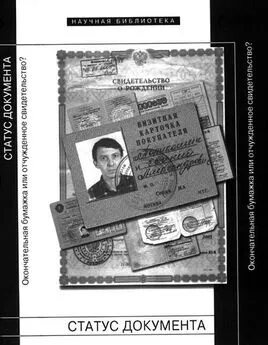
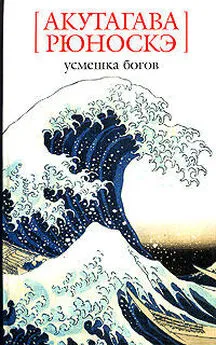
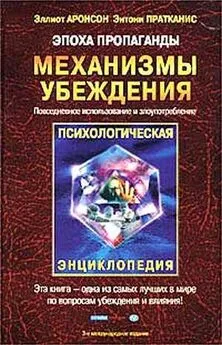

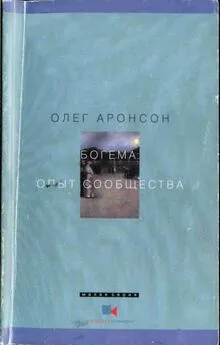

![Николай Тихонов - Волшебная бумажка [авторский сборник]](/books/1143288/nikolaj-tihonov-volshebnaya-bumazhka-avtorskij-sborn.webp)