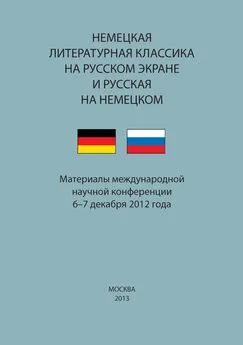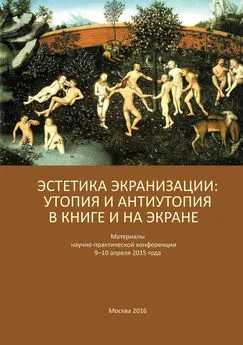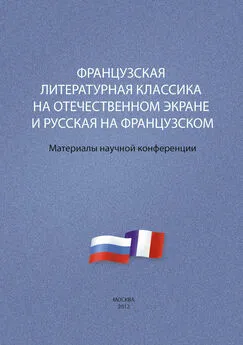Array Сборник статей - Псевдонимы русского зарубежья. Материалы и исследования
- Название:Псевдонимы русского зарубежья. Материалы и исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0454-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник статей - Псевдонимы русского зарубежья. Материалы и исследования краткое содержание
Псевдонимы русского зарубежья. Материалы и исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С момента своего возникновения журнал внятно ориентировался не только на антифашистскую идеологию, но и на патриотические российские ценности, и это провело решительную грань между Прегель и той частью эмиграции, которая, отличаясь не меньшим, нежели она, либерализмом, в отношении к Советскому Союзу занимала куда более жесткие и непримиримые позиции. Так, например, в письме к Н. Евреинову от 17 августа 1945 г. Прегель писала:
Что касается Зензинова, Николаевского, то я с ними не встречаюсь. Сами понимаете почему. «Новоселье» заняло позицию, которая им не по душе. А мне их – буквально отвратна.
Странно, бывшие «аристократы» стали патриотами, а «бывшие» социалисты оскандалились… [754]
Забегая вперед, скажем, что откровенно советофильские настроения «Новоселья» в будущем оттолкнут от него эмигрантов второй волны, «ди-пишников», не разделявших политических иллюзий редактора и журнала в целом. Позднее, 14 апреля 1946 г., Прегель писала тому же Евреинову:
«Новоселье» по-прежнему неприемлемо для известной части новой эмиграции [755].
Новый журнал, по словам сотрудничавшего в нем М. Слонима, занял «твердую оборонческую позицию» [756]. Советофильство Прегель в значительной мере основывалось на подъеме патриотических чувств и российской национальной идентификации, которые с невиданной силой пробудила у эмигрантов Вторая мировая война. В сознании «новоселов» складывалась картина послевоенного мира, в которой доминировала вера в то, что победа над фашизмом должна привести к гуманизации самих победителей. Прегель, вне всякого сомнения, была одной из тех, кто – с теми или иными оговорками – верил в этот «сладостный обман». Отсюда, кстати сказать, прорывающиеся у нее временами негодующие интонации против «Нового русского слова», чья политическая ориентация была однозначно проамериканской и, стало быть, антикоммунистической. Так, например, в письме к В. В. Сухомлину от 8 сентября 1945 г. она писала об этой газете как «испоганившейся», которая безоговорочно поддержала американскую ноту против суда над командующим югославской армией генералом Д. Михайловичем, круто разошедшимся с коммунистическим режимом [757]. При этом заметим, что в «Новом русском слове» и тогда, и потом, равно как и в другой русскоязычной нью-йоркской газете, просоветском «Русском голосе», регулярно появлялась информация о выходе «Новоселья» (это, впрочем, указывало не столько на единство взглядов, сколько на финансовую заинтересованность газеты: размещавшиеся в ней объявления были, разумеется, не бесплатными и приносили прибыль), а некоторые авторы «Нового русского слова» являлись одновременно и авторами «Новоселья» и пр.
Вопрос о политических симпатиях, питаемых частью эмиграции к СССР, имел множество градаций и разнообразных форм и видов проявления – от относительно «невинного» участия в эмигрантской просоветской печати и общения с засылаемыми на Запад советскими посланцами-эмиссарами до движения «возвращенчества» (взятие советских паспортов, активная «патриотическая» пропаганда и пр. – вплоть до соглашения работать на советские спецслужбы). То обстоятельство, что Прегель в первые послевоенные годы, когда процесс советизации в эмигрантской среде развивался в особенности активными темпами, жила не в Париже, а в Нью-Йорке, безусловно, сыграло свою определенную роль в ее личной судьбе, однако и в этих условиях идеологический профиль журнала носил откровенно левый характер [758]. Кроме того, нам известны далеко не все из круга сотрудников-«новоселов»; был еще какой-то потенциальный состав, кого Прегель хотела бы видеть на страницах своего журнала. Например, И. Эренбурга, к которому она обратилась с письмом, отправив ему, желая заинтересовать, четыре книжки и испрашивая на них отклик (письмо датировано 17 апреля 1946 г. и было адресовано через советское посольство в Вашингтоне) [759].
Нет ничего удивительного в том, что «левая» политическая диспозиция «Новоселья» порождала в русской эмигрантской среде, не просто гетерогенной, а самым явным образом политически поляризованной, армию недоброжелателей. Одним из достаточно непримиримых оппонентов журнала был, например, Г. Иванов, никогда в «Новоселье» не печатавшийся, а в 1950 г., уже под самый занавес существования журнала, выступивший против него в парижском «Возрождении» (речь шла об отзыве на последнюю, 42 / 44-ю, книжку) с едкой критической репликой, названной «“Новоселье” на новоселье». Не исключено, что ее название в полемических целях дублировало заметку А. Бахраха двухлетней давности «Новоселье “Новоселья”», напечатанную в газете «Русские новости» (см. об этом далее). Сравнивая «Новоселье» с довоенными «Числами» и «Кругом», Г. Иванов замечал:
Как «Числа» или «Круг» – «Новоселье» охотно печатает вещи, ничего не имеющие общего с искусством, но зато «авангардные».
И далее с интонацией резкой неприязни и осуждения развивал это суждение, касаясь персональных имен:
Есть в «Новоселье» и произведения «литературного генералитета» – Бунин, Ремизов и Тэффи, неизменных сотрудников «Новоселья» и нынешнего и, печальной памяти, нью-йоркского… [760]
Чувствуя себя «по ту сторону» от «Новоселья», автор не скрывал разделяющей его и журнал границы:
Все-таки и на новоселье «Новоселье» остается по ту сторону разделяющего нас «барьера». 16 июня большевизантствующее «объединение писателей» под председательством Адамовича пышно чествовало журнал и его редакцию [761], «с 1942 года стремящуюся к объединению всех живых сил зарубежья», по выражению репортера «Русских Новостей». Мы ни к числу желающих объединяться с этими «живыми силами», ни к тем, кто считает нужным «Новоселье» за его «объединительную» деятельность чествовать – не принадлежали и не принадлежим [762].
Прегель в долгу не осталась, и хотя, насколько нам известно, мнение о поэзии Г. Иванова публично не выражала, в письме к поэтессе и издательнице Р. С. Чеквер от 2 марта 1951 г., приветствуя ту в связи с основанием парижского издательства «Рифма», в котором вышел ивановский сборник стихов «Портрет без сходства» (1950), однако не скрывая своего отношения к автору, замечала:
Единственное, с чем я была (и остаюсь) не согласна, это издание книги Г. Иванова [763].
Прегель, разумеется, не могла не сознавать, чем является Г. Иванов для изгнаннической поэзии и русской литературы вообще, однако затаенная на него обида была, по-видимому, сильней и, как это нередко бывает в писательской среде, распространялась на собственно литературный «имидж» противной стороны – деформировала пропорции и искажала истинный характер творческой одаренности. Впрочем, не исключено, что к этому чувству примешивались и дошедшие до Прегель слухи о коллаборационизме Г. Иванова [764].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: