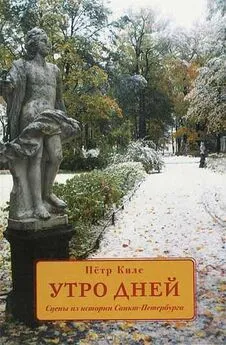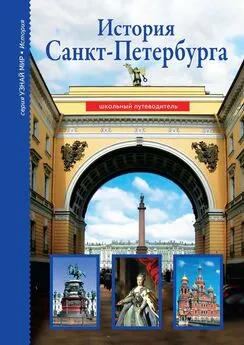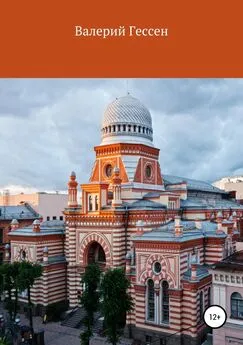Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга
- Название:История культуры Санкт-Петербурга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-21606-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга краткое содержание
История культуры Санкт-Петербурга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тема всеобщей и, что еще важнее, персональной вины – центральная для «Поэмы без героя». Без нее этого произведения не существовало бы. Сама эта тема для русской литературы традиционна. Не новой является и проекция чувства вины на Петербург, рисуемый как некий новый Рим, погрязший в роскоши, распутстве и всеобщем разложении и чуть ли не заслуживший, таким образом, свою гибель под натиском варваров XX века. Новой и абсолютно необходимой для кристаллизации петербургского мифа в интерпретации Ахматовой является трансформация темы греха и вины в тему их искупления через страдание, когда и город, и Ахматова вместе проходят крестный путь унижений и мук.
Сначала Ахматова раскидывает богатую ткань карнавальной жизни Петербурга 1913 года (здесь заметно влияние идей Михаила Бахтина о центральном месте карнавала в культуре). С новогоднего карнавала начинается и само повествование «Поэмы без героя», когда к автору приходят легендарные персонажи дореволюционного Петербурга (среди них можно угадать Блока, Маяковского, Михаила Кузмина), наряженные Дон Жуаном, Полосатой Верстой, Фаустом, Казановой, Владыкой Мрака. Но действие сразу же вырывается за пределы четырех стен на просторы Петербурга, и в магическую панораму города Ахматова искусно вплетает его культурные символы. Так в тексте «Поэмы без героя» появляется «лебедь непостижимый» – балерина Анна Павлова и звучит голос великого баса Федора Шаляпина, который «сердца наполняет дрожью». Когда Ахматова пишет —
До смешного близка развязка;
Из-за ширм Петрушкина маска,
Вкруг костров кучерская пляска…
то она немедленно вызывает в воображении читателя сцены из другого произведения, ставшего символом дореволюционного Петербурга – балета Стравинского – Фокина – Бенуа «Петрушка», не только первым введшего в мировую культуру тему ностальгии по столице русской империи, но еще и достигшего этого на основе того же, основополагающего для «Поэмы без героя», треугольника Пьеро – Коломбина – Арлекин (в балете Стравинского представленных как Петрушка – Балерина – Арап). Еще одним персонажем своего вихревого бахтинианского карнавала Ахматова сделала ведущего театрального режиссера-авангардиста той эпохи, Всеволода Мейерхольда. В 1906 году Мейерхольд поставил символистскую фантазию Блока «Балаганчик», включавшую обязательный для той эпохи любовный треугольник Пьеро – Коломбина – Арлекин. Эта постановка стала манифестом петербургского модернизма. А спустя несколько лет Мейерхольд показал петербуржцам пантомиму Артура Шницлера «Шарф Коломбины», где те же персонажи кружились в карнавальном экстазе. В пантомиме Шницлера Мейерхольд придумал запомнившуюся многим, в том числе и Ахматовой, трогательную фигуру робкого Арапчонка. Ахматова вводит в действие «Поэмы без героя» также и «Мейерхольдовых арапчат», и, как всегда у Ахматовой, эта деталь имеет множественное значение: она напоминает о другой постановке Мейерхольда, где участвовали арапчата, – «Дон Жуане» по Мольеру, показанном режиссером в императорском Александринском театре в 1910 году. Как мы видим, Ахматова пользуется любой возможностью, чтобы вновь и вновь напомнить о сквозной теме «Поэмы без героя» (которая является также и лейтмотивом легенды о Дон Жуане): о теме греха и расплаты за него.
Как признавалась сама Ахматова, работы Мейерхольда оказались в числе важных импульсов для создания «Поэмы без героя». Она связывала ее возникновение с впечатлениями от исторического показа драмы Лермонтова «Маскарад» в постановке Мейерхольда в 1917 году. Спектакль этот тогда прозвучал как реквием по императорскому Петербургу, и именно эту поминальную ноту подхватила в своей «Поэме без героя» Ахматова.
Еще одним спектаклем Мейерхольда, который сыграл, быть может, не меньшую роль в генезисе «Поэмы без героя», стала его новаторская постановка в 1935 году в Ленинграде оперы Чайковского «Пиковая дама». Ахматову с этим произведением связывали сложные отношения. Ее волновала и притягивала экзальтированная, страстная, мистическая музыка Чайковского, да вдобавок «Пиковая дама» принадлежала к числу любимых опер Блока и Артура Лурье, которые оба считали этот опус Чайковского центральным для петербургского мифа.
Блок в одном из своих опубликованных писем прямо связывал «Медного всадника» Пушкина, «Маскарад» Лермонтова и «Пиковую даму» Чайковского как вариации на одну и ту же «петербургскую» тему. Для Блока магический Петербург – это город маскарадов (карнавалов), где «Пушкин «аполлонический» полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского – мага и музыканта… ». Ахматова, внимательно изучавшая письма Блока, не могла пройти мимо этого его наблюдения. Но она, как я помню, была шокирована вольностями либретто оперы Чайковского, радикально изменившего ее литературный первоисточник. Тем большее впечатление должна была произвести на Ахматову нашумевшая постановка этой оперы Мейерхольдом, когда режиссер попытался вновь «пушкинизировать» ее сюжет, даже заказав для этого совершенно новое либретто, еще резче выявившее доминантный внутренний стержень музыки Чайковского – вина и ее искупление (этот мотив явственно звучал также и в «Маскараде» Лермонтова).
Спектакль Мейерхольда по «Пиковой даме» расколол интеллектуальную элиту Ленинграда на два лагеря: одни яростно нападали на эту постановку за «вольности» в трактовке оперы Чайковского, другие, в том числе и молодой Шостакович, считали ее гениальной. Сам Мейерхольд заявлял, что в своей интерпретации «Пиковой дамы» он хотел передать «настроение «Медного всадника». Мейерхольд строил постановку на кричащем контрасте между сумрачным городским пейзажем и безумной, слепящей роскошью угарных петербургских развлечений. Этот контраст Ахматова впоследствии встроила в свою «Поэму без героя», уснастив ее также завуалированными реминисценциями и параллелями с «Пиковой дамой» Чайковского.
Чайковский инстинктивно ощущал возможность гибели милого его сердцу Петербурга, тревожился и ужасался этой возможности и в своей музыке – особенно в балете «Спящая красавица», в «Пиковой даме» и в Шестой («Патетической») симфонии – даже не столько пропел, сколько прорыдал свой грандиозный, раздирающий сердце реквием по императорской столице. (В одном из разговоров с Ахматовой мы детально обсуждали возможность использования «Патетической» как музыки для балета по «Поэме без героя».) Вот почему без отзвуков музыки Чайковского, превратившейся в один из главнейших элементов классического петербургского мифа, Ахматова обойтись никак не могла. Ее «Поэма без героя» предстает настоящей энциклопедией этого мифа. Она вся пронизана множеством явных, скрытых и зашифрованных цитат и аллюзий из произведений ведущих петербургских авторов, являясь в этом смысле по существу истинно постмодернистским текстом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: