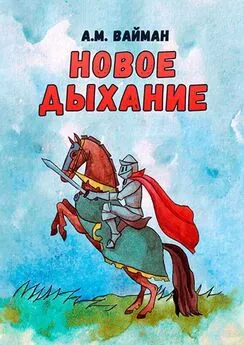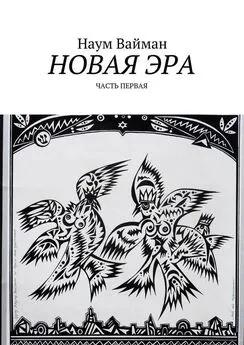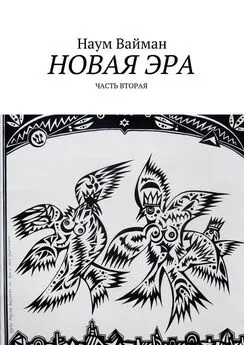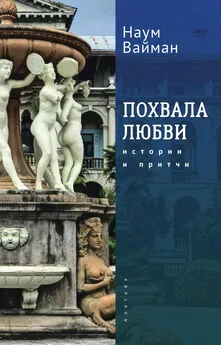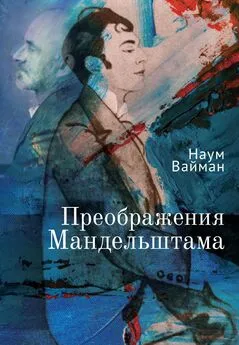Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
17. Пророк
Метафоры Мандельштама, особенно в этом стихотворении, многозначны: они взрываются, как бергсонова граната, и их смыслы разлетаются в разные стороны 326. Множатся и «смыслы» стихотворения. «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны», считал Бергсон, а за ним и Мандельштам, и уж тем более разветвляются смыслы стихотворения. И мне кажется, что поэту не удалось обуздать и гармонизировать все «торчащие в разные стороны» смыслы, тем более что часть из них он еще пытался зашифровать 327…
Да, «Канцона» – о вознесении на высшую точку обзора времен и пространств, вознесение и преображение в новую, божественной природы сущность, и благословение на новую судьбу. То есть, это стихотворение об инициации, о даре небес видеть, слышать и глаголить 328. В русской литературной традиции эта тема связана с «Пророком» Пушкина. «Канцона» – мандельштамов «Пророк» 329. И это, быть может, самый общий смысл этого стихотворения. Пушкин, уже зрелый поэт в расцвете сил, будучи еще в ссылке в Михайловском, как раз в дни восстания декабристов наткнулся в Святогорском монастыре на Библию, раскрытую на шестой главе Исайи, где пророк призван к служению. Он увидел в этом перст Божий и пересказал ветхозаветную поэзию торжественным русским стихом.
Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился…
Заметим, что Пушкин называет пустыней русскую жизнь… Для Мандельштама такой пустыней было еще и пятилетние молчание, прерванное только после «вознесения» в Армению, и кроме страха «пустыни» был страх молчания, и желание любой ценой «разомкнуть уста», воскреснуть (поэтически), возродиться. А возрождение возможно только через жертву‐преображение, через самопожертвование и даже принесение в жертву всего народа.
И сказал Он: «Пойди и скажи этому народу: «Слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего…» И сказал я: «Доколе, Господи?» Он сказал: «Доколе… земля эта не опустеет». (Исайя, 6:10–13)
У Пушкина этот мотив опущен. Для него главное – личное превращение: «И он мне грудь рассек мечом и сердце трепетное вынул»… Здесь начало новой жизни, прежний поэт умирает и рождается новый:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
В «Канцоне» это преображение является с даром волшебного бинокля, когда зрение поэта становится не просто орлиным, но и вещим, как у Пушкина:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
И, как у Пушкина, обретается возможность слышать.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон…
Но призыв к служению у Пушкина иной, чем у Исайи.
Как труп в пустыне я лежал
И Бога глас ко мне воззвал.
Исайя же был наверху, у престола Божьего и серафимы вокруг пели ему славу.
Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, взятый с жертвенника; и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:6–7).
Призвание Мандельштама в «Канцоне» больше похоже на рассказ Исайи. Бог и есть «начальник евреев», а зовет поэта к служению сам царь Давид, вручая «дорогой подарок», «прекрасный бинокль»:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей:
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
И пошли жгучие стихи: «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…»; «Мы живем, под собою не чуя страны…»; «Квартира тиха, как бумага…»
И Божья ласка прозрения, конечно, «малиновая», она величественна и горька.
18. Цвета
Обретя чудесное зрение, поэт неожиданно переключается на прозрение цвета, и прежде всего в его воображении всплывают два цвета, лишь они «не поблекли»: желтый и красный – таков итог стихотворения! (О тех же красках: «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,/Всего‐то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра» 330.)
О чувственной силе красок – мир, как набор цветовых пятен, музыка цвета – теоретизировали многие художники, Мандельштам посвятил этой синестезии главу «Французы» в «Путешествии в Армению», где описал впечатления от картин французских импрессионистов и постимпрессионистов: кроме Моне, Ренуара и Писсаро упомянуты Сезанн, Ван‐Гог, Матисс, даже ранний Пикассо и Озенфан, теоретик кубизма. По Мандельштаму зритель картины должен смотреть, как художник: «Спокойно, не горячась… погружайте глаз в новую для него материальную среду…»
Тончайшими кислотными реакциями глаз – орган, обладающий акустикой (выход к слуху! – Н.В .), наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды… поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции… 331
И чтобы охватить взглядом море он «растягивал зрение, как лайковую перчатку».
Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема».
Разве эта фраза не напоминает ту «ростовщическую силу зренья» хищных птиц, состоящих при Зевсе? Это лишний раз говорит о том, что для Мандельштама эти помощники – художники и поэты (и он в их числе).
И я начинал понимать, что… цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.
Цвет, как стартовый пистолет, запускающий «машину образов» из «Разговора о Данте». Современная живопись вообще сломала геометрические законы пространства и устремилась в просторы времени, цвета зазвучали. Шагал, Сутин, Лисицкий, почти ровесники Мандельштама, были в авангарде этого «выхода из пространства». Пауль Клее, музыкант из семьи музыкантов, писал о своей живописи:
Освободившись хотя бы на время от отчуждающего действия графической магии и принудив себя к внимательному и холодному разгляду, я, возможно, увижу вдруг в причудливых изгибах линий нечто подобное остаткам иероглифического письма, может быть слишком древнего и безвозвратно искаженного, чтобы его можно было сегодня дешифровать. А может быть, если размышлять дальше, отказывая в доверии глазу, перед нами разновидность нотной записи, и на место глаза следует перевести тонко чувствующее ухо. Бессилие графического перед силами музыки.
Яркий пример – Марк Ротко с его поющими сочетаниями цветных плоскостей.
Музыка не новость в поэзии, но Мандельштам вносит в нее и краску 332. В финале «Канцоны», «в сухом остатке» остаются только две не поблекшие краски, связанные с двумя чувствами: «в желтой – зависть, в красной – нетерпенье». Если таков финал центрального метафизического стихотворения, то речь, должно быть, идет о смерти и жизни, в конце концов, к ним все сводится. Желтый – смерть, красный – жизнь, золото статуй и кровь тел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)