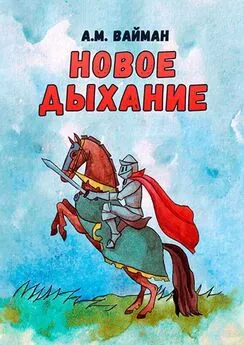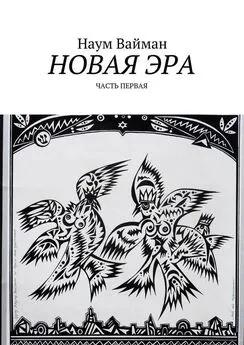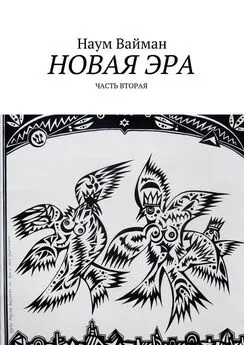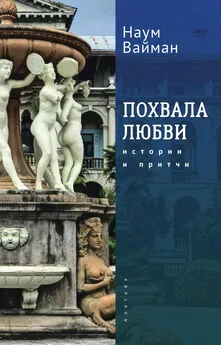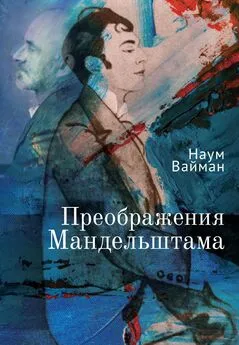Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, если считать язык кладовой исторической памяти, живой историей и обращаться к нему как к народу… Мандельштам действительно считал, что «столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история» 456. И тогда получается, что вся традиция русской культуры, закрепленная в языке, требует от поэта не только отказаться от чести и имени («на честь, на имя наплевать» 457), но и стать палачом, требование действительно грубоватое. Но так ли уж однозначна связь народа с его историей, культурой и языком? В той же статье Мандельштам пишет, что «русский язык – язык эллинистический», «живые силы эллинской культуры… устремились в лоно русской речи». Но русская культура – все‐таки не эллинская. И в другой статье («Vulgata») он пишет, что «византийские монахи… навязали языку чужой дух и чужое обличье», и «неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада… В русской речи спит она сама и только она сама». В общем, у нашего подследственного случилась в этом важном вопросе языкознания некая путаница, которую он не мог не сознавать, а значит и трудно себе представить, что его обращение, столь жизненно важное, интимное, с обещаниями (языку!?) расплатиться за бессмертие участием в казнях, не имеет ясного адреса. Нет, не вяжется.
Так что версии народа и языка как адресатов стихотворения «Сохрани» придется отбросить.
4. Иосиф Сталин как дух народа и языка
Самый естественный адресат стихотворения «Сохрани мою речь» – Иосиф Сталин, отец народов‐языков. Вот уж воистину дьявол во плоти, даже с многолетней теологической подготовкой, ему и не грех предложить фаустовскую сделку. Во многих текстах Мандельштама Сталин соединяет в себе и отцовство, и дружбу, и заботу о языке. Вождь – дух языка 458. В варианте стихотворения «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» Мандельштам прямо пишет об их единстве, причем в образе русского тотема – медведя: «Язык‐медведь ворочается глухо /В пещере рта. И так от псалмопевца /До Ленина…». Значит, и до Сталина. Тема тройной связи вождя, народа и языка поэт поднимает на пьедестал своей знаменитой «Оды» Сталину: «Ему народ родной – народ‐Гомер хвалу утроит».
В «Оде» Сталин трижды назван «отцом» («вдруг узнаешь отца»; «не огорчить отца»; «отца речей упрямых»). Герой оды – поэт, «художник» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…»), учится понимать масштабность переживаемой эпохи и значение ее вождя. В «Оде» Сталин – учитель поэта:
Я у него учусь, не для себя учась.
Я у него учусь – к себе не знать пощады,
Учитель в еврейской традиции важнее не только друга, но даже отца. В Мишне сказано:
Если [человеку] надо искать и свою пропавшую вещь и пропавшую вещь отца, то пусть сначала ищет свою; если же [надо искать] отцовскую вещь и вещь учителя, то сначала пусть [отыщет вещь] учителя, потому что отец ввел его в мир, а учитель, обучивший мудрости, вводит его в мир грядущий… 459
В Сталине он видит учителя и помощника. И в ответ призывает себя помочь Сталину: «помоги тому, кто весь с тобой» – помощь всегда взаимна. Ну, а то, что помощник был грубоват, чистая (как слеза комсомолки) правда. Возможно, что это даже цитата: фраза из письма Ленина 13‐му съезду партии «Сталин слишком груб» была всем прекрасно известна 460. И помощь вождя шла вместе с вещами довольно грубыми: «приговорами» («Вот «Правды» первая страница, /Вот с приговором полоса»), «кровавыми костями в колесе», «мерзлыми плахами» и отварами из «ребячьих пупков». Но стремление Мандельштама к приобщению, несмотря на «несчастья», к грандиозным замыслам и свершениям это не умалило.
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада.
Повторяется все тот же мотив фаустовской сделки: несчастья (читай террор, казни), не заслонят планов наших громадьё, они оправдывают и адский чад «несчастий», и его собственную готовность принять участие в этих грандиозных, пусть и адских свершениях: в обмен на бессмертие своей речи поэт принимает всё 461.
Но для Мандельштама это не только выбор «исторической необходимости», но и формула бытия в России и с Россией – как испытания и жертвенного «подвига существования», и она звучит во многих его стихах, начиная с самых ранних: «Россия, ты – на камне и крови – /Участвовать в твоей железной каре/Хоть тяжестью меня благослови 462»; «несчастья волчий след,/ ему ж вовеки не изменим» 463; «По старине я принимаю братство/Мороза крепкого и щучьего суда» 464; «Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи». Если уж принял Россию как страну «на крови», то «казни» лишь штрихи к ее кровавой истории, выбрав Россию, ты выбрал и Сталина. Любишь медок, люби и холодок.
В стихотворении «Люблю под сводами седые тишины…» (1921) этот мотив принятия «несчастья», как крутого замеса русской жизни, становится выбором не только судьбы, но и веры. Воспев гимн великим европейским соборам («Соборы вечные Софии и Петра, амбары воздуха и света»), поэт выбирает сумрак, пасмурность и ветхость русского храма, присягая на верность русскому «следу несчастья»:
Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.
О том, что это именно «русский след» говорит эпитет «волчий». А «ветхий невод» храма относит к ветхозаветным корням христианства («генисаретский мрак», «ветхозаветный дым на теплых алтарях»): быть может, поэту пригрезилась в революции библейская девственная суровость? Мандельштам давно учится «к себе не знать пощады» и силу духа для своего выбора черпает и в иудейском наследии.
5. Несчастья, неправда и моление о чаше
Скажут, что примеры из «Оды», написанной в 1937‐ом (в том числе и троекратное «отцовство» Сталина) не годятся для «Сохрани» 1931 года – другая эпоха. Многим вообще затруднительно принять «Сохрани мою речь навсегда» как обращение к Сталину: уже сложился образ поэта – жертвы режима, бросающего Сталину героический вызов стихотворением «Мы живем, под собою не чуя страны» (1933). Мол, с верноподданнической мольбой и готовностью служить (в «Сохрани») сей вызов не вяжется. Однако эта неувязка кажущаяся, и лишь на первый взгляд. Между двумя этими стихотворениями есть глубокая связь. В них, как и в «Волке» (1931), и «Неправде» (1931) разыграна, как пишет Евгений Тоддес, «коллизия самозаклания», разве что она со временем переходит к «биографической реализации». «Поражает тот факт», пишет Тоддес, что эта коллизия «осуществилась в реальности» 465. Не вижу в этом ничего «поразительного», но – факт.
В стихотворении «Мы живем под собою не чуя страны» тоже возникает тема «речи», во многом сходная с «Сохрани»: в стране только один хозяин речи, и его слова «как пудовые гири верны», все остальные обречены на молчание‐мычание («Наши речи за десять шагов не слышны») 466. Да и у самого хозяина речь какая‐то нечеловеческая, он «бабачит и тычет», а его сподвижники «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет». Тоддес пишет, что в «Четвертой прозе» «нарушение языкового контакта “я” с “новым миром”» иллюстрируется «трагикомической китайщиной: халды‐балды (отмечено у Даля в статье «Халда»), хао‐хао, шанго‐шанго » 467. То есть имеет место некая утрата языка, а с ним и утрата истории («Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории» 468.) В таком контексте особое значение обретает мольба о сохранении речи. «Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова», поэт прозревает наступающий голод нового государства на культуру, на слово, то есть, если вовремя подсуетиться, то можно овладеть ситуацией: «Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник евхаристию, – будет вторым Иисусом Навином». Мандельштам готов предложить государству свою великодушную помощь не только в качестве эксперта и советника, но, бери выше, в качестве священника, окропляющего новый тип «взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета». По мнению Тоддеса, у Мандельштама сочетается
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)