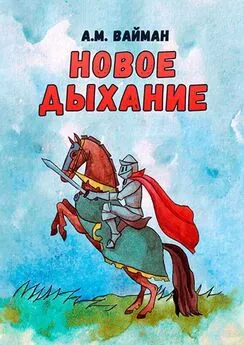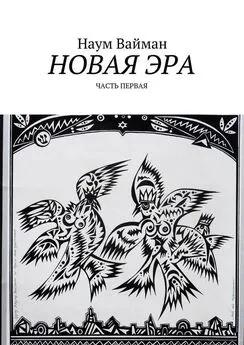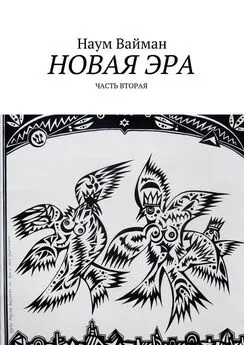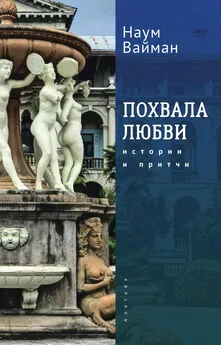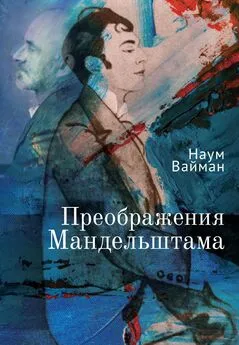Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
понимание революционного государства как врага слова и императив жертвы («путь и подвиг») во имя ценностей «нового мира», которые поэт должен обогатить словом и культурой.
«Именно в этих построениях, – поясняет исследователь, – <���…> исток позднейшего мотива «охраны», «обороны» поэтом «народного вождя» («Художник, береги и охраняй бойца» в оде Сталину, «И мы его обороним» в «Стансах» того же 1937 г.) 469.
Сталин вторгается в тексты Мандельштама по возвращении поэта в 1930 году из Армении (хотя и в Армении мысли о нем не покидали поэта: «ассириец держит мое сердце»). И тогда же приходит осознание, что новая жизнь – надолго: «Молодых рабочих татарские сверкающие спины…/ Здравствуй, здравствуй, могучий некрещеный позвоночник,/ С которым проживем не век, не два!» Это из стихотворения 31‐го года. «Татарвой» он называет народ и в «Сохрани» (друга и отца он бы так не назвал). И тогда же появляется стихотворение «Неправда» о «вхождении» в новую жизнь, что сравнивается с глухой русской избой, обиталищем Неправды: «Вошь да глушь у нее, тишь да мша, – полуспаленка, полутюрьма…», она же и гроб сосновый, и творятся там дела жуткие:
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из‐под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
Стихотворение написано в фольклорной, сказочной манере. Вот его начало:
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай‐ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
Поэт как бы приглядывается к внезапно открывшейся ему русской жизни, осваивается в этом аду, где ему «все‐таки до смерти хочется жить» 470, хотя суждено умереть. Трудно не почувствовать в этих строках тот же, что и в «Сохрани», мотив отчаянного приятия российского ужаса, жизни‐неправды. Это приятие ужаса как нормы жизни, на которую он обречен, и толкает его в сторону фольклорного сказа, к стилистике страшной сказки.
В «Неправде» впервые появляется и намек на отца, хозяина этого народа, его языка и всех речей – Сталина: неправда названа шестипалой. Было ли у Сталина на ноге шесть пальцев никто, наверное, точно не знает, но миф об этом был распространен, и поэт за ним последовал 471.
А чуть раньше, но в том же 1931‐ом году, он пишет этапное (предчувствовал – загреметь ему по этапу) стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» – тоже обращенное к Сталину.
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.
Мне на плечи кидается век‐волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
И здесь мольба‐требование: запихай, уведи. Кому‐то покажется странным обращение к убийце (ведь говорится о «кровавых костях в колесе») с мольбой избавить его – нет, не от участи – от созерцания «хлипкой грязцы» (тут под всхлипы и сопли, и кровь, и всякие пыточные выделения), собственно, мольба о легкой смерти («уведи меня в ночь»). Но кого еще о ней молить, как не того, кто волен казнить и миловать. Да, мольба о смерти, но как о ссылке на блаженные острова, где герои и поэты, причастные славе, коротают божественное бессмертие, потому что он из той же породы блаженных, он не волк по крови своей, и убить его может лишь равная ему высшая сила. Вот такое «моление о чаше». Как будто Мандельштам знал о будущей резолюции Сталина на его деле, отправляющей поэта в ссылку: «изолировать, но сохранить». И даже место (Чердынь) было выбрано не так далеко от великих сибирских рек (Енисей, правда, далековато, но Обь и Тобол поближе). И в этой мольбе вождю‐отцу народов спрятать его в русский сказочный рай, сибирский ночной элизиум, где вечно сияют голубые песцы в своей первозданной красе, и сосна до звезды достает 472, есть интонация интимной близости к высшей силе («и меня только равный убьет»).
Черновики стихотворения убедительно включают его в контекст тем «Сохрани» и «Неправды». Последняя строка звучала: «И неправдой искривлен мой рот». Был и такой вариант последней строфы (в перехлест с «Неправдой»):
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу 473.
Ночь, где течет Енисей, тот самый русский элизиум, оборачивается избой шестипалой неправды…
6. Монументальный лубок
«Неправда», «За гремучую доблесть», «Сохрани», «Мы живем, под собою не чуя страны» и др. стихи начала тридцатых годов связаны единой, фольклорной поэтикой, в ее рамках жестокая сказка, страшный сон и фантастически жуткая явь завязаны русской речью в единый узел. И неслучайно «Мы живем, под собою не чуя страны» Ахматова назвала монументальным лубком. Его элементы возникают сразу по возвращении в Москву из Армении в 1930‐м, когда поэт обнаружил – нельзя сказать, что уж совсем неожиданно, – что он живет в мире упырей, и ему здесь не место. Он слышит себе вслед, то ли сам себе шепчет:
Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, —
Старый повытчик…
Командировку в Армению «по культурным делам» Мандельштаму организовал Бухарин, и поэт мог чувствовать себя «чиновником по особым поручениям», отсюда «повытчик», и даже «чудный чиновник без подорожной». Но и острог у него теперь завсегда «в уме»: «командированный к тачке острожной, он Черномора пригубил питье…» 474. Тут дорожный указатель на Пушкина, что «на пути к Эрзеруму» решил пригубить питье сказочного Черномора, и появляется басенная мешанина людей и зверей («были мы люди, а стали людье»):
И по звериному воет людье,
И по‐людски куролесит зверье.
Тут как тут и фольклорные мотивы смерти:
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
Стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» (декабрь 1930‐го) – это возвращение на пепелище. «Петербург! Я еще не хочу умирать…» – возглас обреченного. И в последних строчках он ждет в гости всякую нечисть:
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Петербург связан со смертью («В Петербурге жить – словно спать в гробу»), но и в «курве» Москве не спасешься:
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)