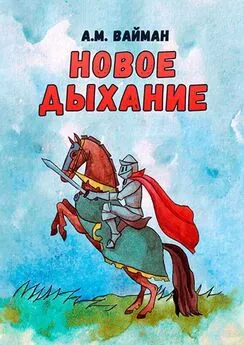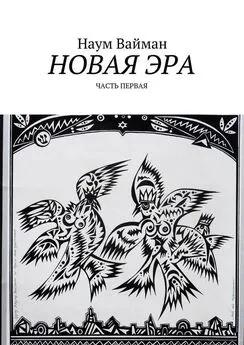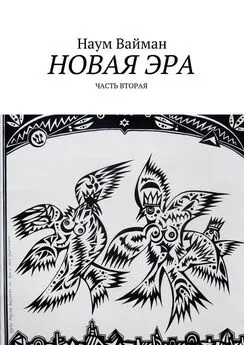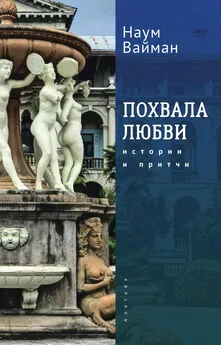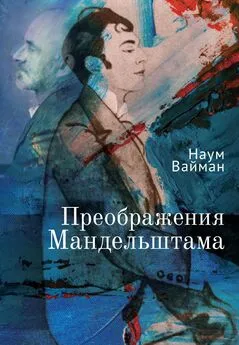Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть: «Не расстреливал несчастных по темницам».
Однако жить можно было лишь «большевея». А стало быть, надо от старого мира отречься. В марте 1931 года он пишет «За гремучую доблесть грядущих веков…» – первое стихотворение страшного выбора: пусть кругом ужас и смерть, и я всего лишен, но я хочу жить, а жизнь – это Сталин 481. Принимается и неотделимый от этой жизни острожный слог и напев.
Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто‐то чудной меня что‐то торопит забыть.
Душно – и все‐таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
Последняя строка первой строфы и есть новая формула выхода к жизни. И, конечно, не только о физической жизни речь, но и, прежде всего, о жизни творческой, жизни слова. Здесь характерны наречия «дико и сонно»… И в следующем стихотворении «За гремучую доблесть…» он, отрекшийся от «чаши на пире отцов» и от «чести своей», уже молит о спасении. Кого? Кто может спасти? Только чудо. «Кто‐то чудной». Только «рябой черт», пахан сказочной нечисти может сотворить это чудо. «Волк» и «век‐волкодав» появляются тут не только в связи с отречением от «отцов» и от «чести своей», но и с уверением в благонадежности: волки – это неблагонадежные (простой русский народ), получившие «волчий билет», и век‐волкодав кидается им на плечи, а волкодав, как остроумно заметил Семен Липкин, – помощник чабана. И возглас «но не волк я по крови своей» означает: не тронь, я свой, а если еще не совсем свой, то исправляюсь, стараюсь! И первобытная краса сияющих всю ночь голубых песцов – мир сказочный, завороженный, и только сочинитель этой сказки равен ее хозяину, главарю нечисти, к нему и мольба: «Уведи меня…»
В «Неправде» герой окончательно входит в эту страшную сказочную избу, и последняя строка («Я и сам ведь такой же, кума») – признание, что отныне он такой же полноправный член этого мира, причем с «правильной стороны», он теперь тоже «кум», а шестипалая неправда ему кума. Миф о шестипалости Сталина смешивается с народными верованиями в уродство как сатанинскую печать и знак силы. И не забудем, что на лагерном жаргоне «кум» это легавый, мент, а то и «начальник» 482, то есть вполне себе штатный волкодав.
8. Пушкинский след
Мандельштам не рос в атмосфере русского фольклора, няня из деревни не рассказывала ему на ночь страшные русские сказки, его погружение в этот сказочный мир опирается на литературные образцы, на пушкинскую традицию «страшных снов» и, прежде всего, на «сон Татьяны». Этот таинственный фрагмент некоторые считают 483«нервным узлом» романа «Евгений Онегин».
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена…
Сон – система символов. Снег, сугроб, лед, мгла, зима. В сновидениях у Пушкина это образ России, и он связан со смертью. «Страшно, страшно поневоле/Средь неведомых равнин! /…Бесконечны, безобразны, / В мутной месяца игре / Закружились бесы разны…» 484Марье Гавриловне из повести «Метель» снится, как отец, пытаясь воспрепятствовать ее соединению с суженым, «останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье… и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца». Метель и зима сопровождают и сон Гринева в «Капитанской дочке»: «Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне…», и этот сон кончается кошмарным смертоубийством. Мандельштам заимствует этот образ России и русской культуры как тягостной, смертельно опасной зимы 485. Татьяна во сне пробирается сквозь метель, спасаясь от зимы‐смерти, и ручей в ее сне как мифическая река – водораздел, граница, отделяющая от потустороннего мира, живых людей – от нечисти. Татьяна хочет его перейти («Как на досадную разлуку,/Татьяна ропщет на ручей»), но боится, не может.
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из под него явился?
Большой, взъерошенный медведь…
Медведь – русский тотем, русский бог. Он хоть и страшен, но является как помощник и друг, как проводник по новому для нее миру.
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей…
Такова и надежда Мандельштама: фольклорный зверь как русский бог будет ему провожатым и хранителем в этом опасном мире. Но зима и по ту сторону ручья!
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.
До перехода Татьяна шла «по снеговой поляне, печальной мглой окружена», и в этой картине есть некий покой, девственная первозданность и одиночество, а в новом мире вместо поляны – лес, а это уже царство духов! И появляется его хозяин – медведь, он же помощник. Переход в потусторонний мир оказывается переходом в мир, населенный странными персонажами. Да и снег в русском фольклоре не только саван, но и символ плодородия, покрывало невесты. А переход через ручей означает выход замуж. Татьяна пытается в страхе убежать от своего провожатого (медведь во сне предвещает замужество), но падает без сил…
Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно покорна…
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом всё глушь…
И в шалаше и крик, и шум;
Медведь промолвил: здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!
Русский бог приводит Татьяну к «куму», пахану, бабаю. И «глушь», и «кум», и изба‐шалаш откликаются в «Неправде»… А в избе у «кума» – теплая компания нечисти:
Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах; …
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полу‐журавль и полу‐кот. …
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ!
(Перекликается «С рабским потом, конским топом» 486)
«Дом в лесу», согласно классическому исследованию В.Проппа «Исторические корни волшебной сказки», это «мужской дом», особый институт, присущий родовому строю – место, где собирается союз посвящённых мужчин (в сталинском Политбюро не было женщин). «Братство имеет свою примитивную организацию, оно выбирает старшего» 487. Как и чудовища в шалаше, «лесные братья» в сказке имеют животный облик, «посвященные и живущие в мужских или лесных домах часто мыслились и маскировались животными». По Юрию Лотману, весь эпизод в шалаше основан на русской фольклорной традиции, сочетающей свадебные образы «с представлением об изнаночном, вывернутом дьявольском мире»… Тут не свадебные гости сидят по скамейкам, а лесная нечисть. А свадьба – это одновременно и похороны 488.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)