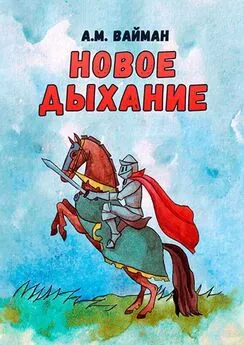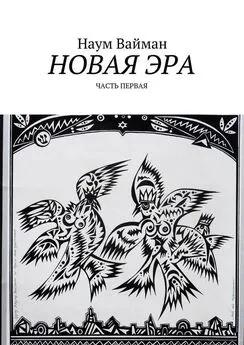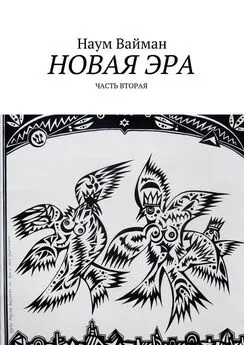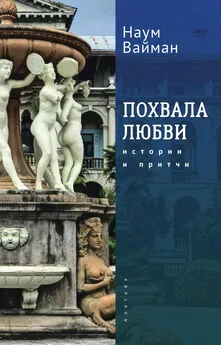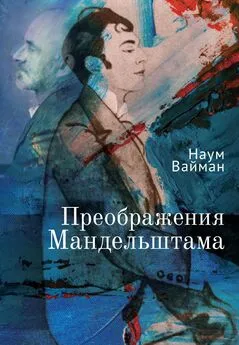Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И обмер рыбак запоздалый,
И, песню заслышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда в высоту…
Мне кажется: так вот и канет
Челнок: ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.
Говорят, что крутой, скалистый берег Рейна в тех местах напоминает гигантский гребень…
Лорелея со своим гребнем (неразлучная пара) появляется и в «Египетской марке». Идет рассказ о самосуде толпы: когото ведут топить в Фонтанке. Герой повести Парнок (похожий на Мандельштама, как две капли воды), видимо, обеспокоенный и своей участью («больше всего на свете он боялся навлечь на себя немилость толпы»), мечется, пытаясь куда‐то «сообщить», позвать на помощь какую‐то «власть» («…он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству – исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству. С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине»). И вот, когда жертву подводят к реке, знаком смерти, напоминанием о ней является Лорелея: «Вот и Фонтанка – Ундина 498барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями…» Фонтанка – река имперская, между Невой и Фонтанкой располагалось сердце императорского Петербурга. И она названа Лорелеей «вареных раков», то есть, все, некогда прельщенные этой имперской красой, уже сварены. И Парнок, обеспокоенный убиением неизвестного гражданина, передает нам тревогу Мандельштама за свою судьбу. Россия, как соблазн, и Фонтанка, как Лета…
И в легенде, и в стихах Гейне, и у Мандельштама Лорелея неразлучна со своим гребнем, а поскольку она несет смерть, то гребень – ее оружие, орудие казни (и расположено в районе шеи) 499… А лиловый цвет – один из оттенков красного. Многие исследователи полагают, что поэт таким образом закодировал кровь…
Я завел речь о Лорелее, поскольку образ этот, образ искушения, ведущего к гибели, кажется мне глубинно важным для Мандельштама, связанным со схемой его судьбы, начертанной в «Сохрани» и других стихах, о коих идет речь. Не углубляясь в разъяснения, замечу на полях (нота Бене), что если для Гейне Лорелея – это Германия, то для Мандельштама – Россия. Для обоих поэтов – образ соблазна чужой культуры. И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку ты для изменнических уст. А вот не искушай чужих наречий…
12. Близость
Многие граждане писали Сталину личные письма как отцу родному, но Мандельштам воспитал в себе некое ощущение интимной близости к вождю как к собеседнику, другу, чуть ли не близнецу‐Иосифу. В «Оде» он не только рифмует «близнеца» и «отца» но и превращает их в одно лицо:
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
«Какого не скажу» – поэт имеет в виду Сталина, но говорить об этом прямо не хочет – вдруг отцу не понравится. Но эта воображаемая близость дает возможность рассмотреть, как «бегут, играя, хмурые морщинки»… Бродский говорит:
после «Оды», будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал. Потому что я бы понял, что он в меня вошел, вселился. И это самое страшное, сногсшибательное. <���…> Там указывается на близость царя и поэта. Мандельштам использует тот факт, что они со Сталиным все‐таки тезки… 500
В стихотворении «Средь народного шума и спеха» рисуется образ народной жизни буквально «под Сталиным»:
Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.
Конечно, это брови Сталина, глядящие с портретов на каждой стене, он и веха народной жизни, и ее пахан, и пахарь («Он эхо и привет, он веха, нет – лемех…» 501).
И вот, через голову этой огромной страны и ее народа, поэт «выходит» напрямую, как к другу и родне, к вождю‐отцу:
И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.
Эта иллюзия близости к вождю питалась еще и тем, что Мандельштам считал себя поэтом исторического масштаба, что дает ему право стоять рядом с вождем не только как свидетель эпохи, но и как ее творец: «Я говорю с эпохою…» 502
13. Сделка с совестью?
В «Стансах» 1937 года, обращенных к Сталину («Дорога к Сталину – не сказка»), обыгрывается тот же мотив приятия действительности казней ради приобщения к новому миру и сохранения речи:
Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.
Была ли сделка с вождем – «сделкой с совестью»? А вот и нет, бери выше! Тут совесть совсем отброшена («на честь и имя наплевать» 503), она не нужна в этой новой огромности, ее надо выкорчевать. Какая совесть, когда мы идем в ногу со временем! «Путь к Сталину» отпускает всяк грех.
Дорога к Сталину – не сказка,
Но только жизнь без укоризн…
Отныне поэт очевидец и участник, он учится у отца «к себе не знать пощады». Главное, «Чтоб ладилась моя работа/ и крепла – на борьбу с врагом».
В другом стихотворении 1937 года, тоже «сталинском» («Будет будить разум и жизнь Сталин»), начало связано с теми же «врагами»: «Если б меня наши враги взяли»… И вместе с мотивом «врагов» звучит и мотив совместной обороны: «Художник, береги и охраняй бойца»; «И мы его обороним», как и в стихотворении «Обороняет сон мою донскую сонь» – одном из черновых фрагментов «Оды»:
И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны‐земли, где смерть уснет, как днем сова 504…
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.
Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны…
Мы видим, что мотив моральной капитуляции перед «историей» и Сталиным как ее воплощением, характерен не только для периода «Оды», но и для стихов начала и середины 30‐х годов: «За гремучую доблесть», «Сохрани», «Канцоны», «Стансов». А в «Оде» и в других поздних стихах поэт даже повышает статус вождя: правитель он уже не земной и преходящий, а вневременный, почти божественный. Говорится о его «моложавом тысячелетии», когда «смерть уснет, как днем сова»:
Воздушно‐каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.
И в «Оде» поэт, скромничая до уничижения, уже и не притязает на высокую дружбу: «Пусть недостоин я еще иметь друзей»…
14. Равный
Царь и поэт – роковой конфликт: оба обладают сакральной властью, едва ли не равной. Для Пушкина поэт – царственный жрец:
Ты царь: живи один. …
Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)