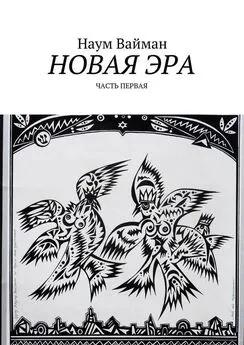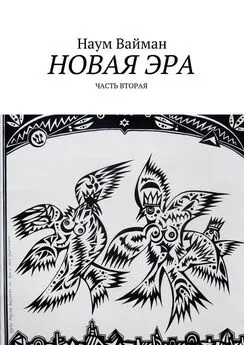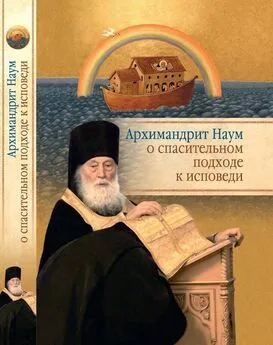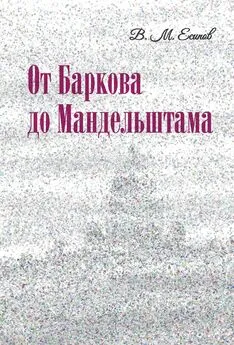Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
164
У Бялика в стихотворении «Если ангел вопросит: Где душа твоя, сын мой?» похожий мотив: «И однажды раскрыл я обветшалую Книгу – / И душа улетела на волю./И с тех пор она в мире бесприютно блуждает,/Бесприютно блуждает, утешенья не зная…
165
Мнение высказано в частном письме
166
статья «Петр Чадааев» (1914).
167
Там же.
168
«Душа моя! гостья ты мира:/ Не ты ли перната сия?»
169
Самое существенное рассуждение о Пушкине – в «Разговоре о Данте», где отмечается, что «один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта», – но только «стоял на пороге». А дальше такой пассаж: «Ведь, если хотите, вся новая поэзия лишь вольноотпущенница Алигьери и воздвигалась она резвящимися шалунами национальных литератур на закрытом и недочитанном Данте». Здесь Пушкин назван «резвящимся шалуном» (кивок в сторону пушкинского «и подруги шалунов, соберут их легкий пепел…») одной из национальных литератур, возникших на недочитанном Данте. А дальше утверждается, что «русская поэзия выросла так, как будто Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано». Это продолжение чаадаевского подхода к России, как стране вне истории, а значит, и вне европейской культурной традиции.
170
Его герои – Баратынский, Лермонтов, Тютчев, Батюшков. Кстати, никто, кажется, не задавался мыслью о том, что в основе двух величайших и основополагающих русских романов 19 века «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» лежит бессмысленное, не продиктованное никакой реальной враждой, убийство друга. В обоих случаях старший друг, разочарованный в жизни циник, убивает младшего, наивного и восторженного. Русская мудрость, циничная и изменническая, к наивности беспощадна. Но в мудрости цинизма есть глубокий изъян: она бесплодна и разрушительна. Мир строят наивные, удивляющиеся, восторженные.
171
С. Франк, начинает свой «этюд» «Религиозность Пушкина» со слов «В русской мысли и литературе господствует какое‐то странное, частью пренебрежительное, частью равнодушное отношение к духовному содержанию поэзии и мысли Пушкина». И хотя задача «этюда» доказать обратное, что Пушкин – «один из глубочайших гениев русского христианского духа», но «доказательства» удивляют наивностью подгона задачки под ответ. Так, например, справедливо отмечая у Пушкина «чисто русский задор цинизма», Франк называет этот задор «типично русской формой целомудрия и духовной стыдливости», мол, Пушкин только «прикидывался буяном, развратником, каким‐то яростным вольнодумцем». А «кощунства молодого Пушкина явственно были протестом правдивой, духовно трезвой души поэта против поверхностной и лицемерной моды на мистицизм высших кругов тогдашнего времени». Мы, де, хулиганы, но очень духовные. На лицо ужасные, добрые внутри.
172
Известный антрополог К. Леви‐Стросс, различает по отношению к исторической памяти два типа общества, холодное и горячее: «Холодные» общества отчаянно сопротивляются любому изменению их структуры, которое сделало бы возможным вторжение истории». Напротив, «горячие» общества характеризуются «жадной потребностью в изменении» (из книги Яна Ассман «Культурная память», стр.72).
173
Конечно, речь идет о «порядочном обществе», не о крепостных же крестьянах, или жидах, не для них писано, да они о ту пору и прочитать его не могли.
174
Михаил Гершензон Избранное в 4 томах, т.1. Гешарим 2000, стр. 39.
175
«Пушкин не ошибся в своем предвидении, что потомство нашло в его поэзии и с торжеством вынесло наружу именно то, чего он не хотел и не мог ей дать: нравоучительность», – пишет Гершензон. И далее приводит фрагмент из статьи известного критика и историка русской литературы С. А. Венгерова «Последний завет Пушкина»: «Напомнив читателям свою ранее высказанную мысль о том, что русская литература «всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово», и что все крупные деятели ее были «художниками‐проповедниками», автор продолжает: «Не составляет исключения и Пушкин, хотя взгляды его на задачи искусства всего менее отличаются устойчивостью. Сердито говорит он в одном из своих писем: «цель поэзии – поэзия». Но не говорит ли нам последний завет великого поэта – его величественное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – о чем‐то совсем ином? Какой другой можно сделать из него вывод, как не тот, что основная задача поэзии – возбуждение «чувств добрых?» Общественные и литературные настроения Пушкина, утверждает автор, «шли зигзагами»; поддаваясь то влияниям общества, то порывам своей пылкой натуры, Пушкин в разные периоды исповедовал различные, подчас даже противоположные мнения; он мог «в минуту полемического раздражения» провозглашать, что поэты рождаются только для сладких звуков и молитв, но фактически он на каждом шагу, притом совершенно сознательно, нарушал этот принцип, давал обществу «уроки жизни», учил и учил. – «И не только стал Пушкин учителем жизни», продолжает проф. Венгеров, «но в учительном характере литературы усмотрел ее высшее назначение».
176
Д. С. Мережковский, статья «Пушкин» в книге «Вечные спутники».
177
В иудействе и античном язычестве отношение к «толпе» совершенно разное. Античный философ – созерцатель, презирающий суету жизни, а иудейский – учитель, старающийся жизнь изменить. Для античного грека философия – путь из толпы, а иудейский мудрец идет в толпу, учит в толпе, на базарах и в синагогах (смотри книгу А.Б. Ковельмана «Толпа и мудрецы Талмуда»). Ну, а русскую толпу Мандельштам просто боялся. Где толпа, там расправа: «По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. <���…> Маткой этого странного улья был тот, кого бережно подталкивали, осторожно направляли, охраняли, как жемчужину… Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши. Шли плечи‐вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши. <���…> Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег Фонтанки отвечали решительно все. Стоило кому‐нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь… как его самого взяли бы в переделку, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое карэ. Тут работал бондарь‐страх. <���…> Не Анатоля Франса хороним в страусовом катафалке… а ведем топить на Фонтанку, с живорыбного садка, одного человечка…» («Египетская марка»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)