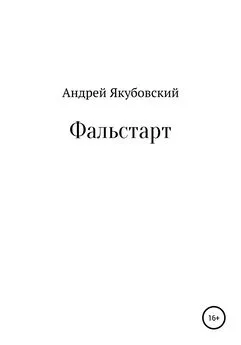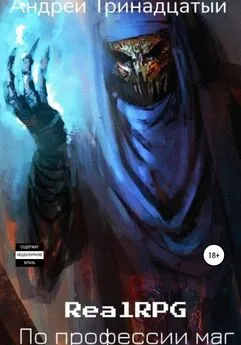Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
- Название:Профессия: театральный критик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик краткое содержание
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Профессия: театральный критик - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На другом полюсе фестиваля находились спектакли студии Клима "Служение слову" (по "Слову о полку Игореве") и многочасовое представление "Сон — Весть — Радость" (по "Персам" Эсхила), а также спектакль Московского театра имени Станиславского "Лысый брюнет" с "рок-звездой" Петром Мамоновым в главной роли.
Эти работы были восприняты с необычайным единодушием (я бы даже сказал — с воодушевлением), как убедительные доказательства движения российского театра от нормативной регламентации к свободе творчества. Более того, Герхард Прейссер из "Тагес цайтунг" усмотрел смысл перемен, отразившихся в фестивальных спектаклях, в том, что российский театр решительно отказывается быть "трибуной", "университетом", "церковью" и все больше начинает соответствовать куда более подходящей для него роли "просто театра". Намеренно заострив проблему, критик дал своей статье броский полемический заголовок: "Мессия или шут?"...
Спектакли Клима критика восприняла как своеобразный парафраз кришнаитских обрядов и вместе с тем ощутила их близость православной церковной литургии. Она отдала должное изобретательности режиссера, а также пластической и речевой выразительности игры актеров.
Восприятие не менее изощренного по внешнему рисунку "Лысого брюнета" оказалось значительно проще. Без всякого труда критика опознала в пьесе Д. Гинка, спектакле О. Бабицкого давно знакомые западному зрителю приметы абсурдистского гротеска.
"Гвоздем" фестиваля стали опять-таки контрастирующие друг с другом оглушительный рок-концерт "Мамонов и Алексей", вызвавший бурю восторга преимущественно у молодой части аудитории, и петербургский спектакль "Немая сцена". В его финале зрители устроили Сергею Дрейдену долгую овацию.
Дрейден, как известно, один разыгрывает гоголевского "Ревизора". Преодолевая естественный языковой барьер, артист установил с немецким зрителем на удивление полный и яркий эмоциональный контакт. Ряд критиков воспринял "Немую сцену" как явление "чистого искусства", а виртуозного исполнителя как "блистательного клоуна", в игре которого обнаруживаются подлинно "большие моменты" (Мат-тиас Пес, "Зюддойче цайтунг"). Однако никто из критиков, восхищавшихся "кабаретно-трюковой" стороной работы С. Дрейдена, увидевших в ней еще одно подтверждение тому, что "русский театр осваивает новую для себя роль шута", к сожалению, не попытался объяснить природу этих "больших моментов". Посему, радуясь успеху замечательного петербургского мастера, нельзя не признать некоторую упрощенность восприятия его искусства, односторонность истолкования его работы немецкой критикой.
Собственно говоря, "виновниками" этого в известной мере явились мы сами, участвовавшие в фестивале московские и петербургские критики. Во время очень живой и продолжительной дискуссии с публикой, прошедшей под девизом "Театр на переломе" и собравшей полный зал, мы сами невольно сделали чрезмерный акцент на этой стороне отечественной театральной "перестройки". Именно после дискуссии едва ли не в каждом отзыве о фестивале и стали звучать на разные лады рассуждения о "мессии и шуте". Публика, съезжавшаяся в Мюльгейм не только со всей Германии, но и из сопредельных с нею Бельгии и Голландии, оказалась в чем-то, пожалуй, мудрее критики. Она, мне кажется, очень точно ощутила ту ситуацию "промежутка", в которой в очередной раз оказался российский театр, когда одни качества уже отмерли, а иные еще не народились.
Зрительский успех фестиваль получил самый очевидный.
Стоит, вероятно, задаться вопросом, почему Роберто Чулли и Театр ан дер Рур рискнули устроить фестиваль именно российского театра? Более того, устроить именно тогда, когда всему миру стал очевиден политический и экономический хаос, воцарившийся нынче в России, когда интерес к ее искусству — будем откровенны! — повсеместно начал ослабевать?
Чулли сам ответил на этот вопрос. В ходе дискуссии он заговорил о великом вкладе России в мировую культуру, о том, что от новой русской сцены он ожидает многих и далеко не безразличных для западного художественного сознания открытий, а потому рад любой возможности укрепить связь с нею, помочь ее художникам.
Руководитель Театра ан дер Рур, как кажется, выразил общее настроение гостеприимных хозяев фестиваля. Именно благодаря их усилиям он прошел в атмосфере сугубо неофициальной, бескорыстно-дружеской. Театральные "игры" под сенью дубовой рощи близ немецкого города Мюльгейма удались на славу.
(Игры в дубовой роще // Культура. 1993. 31 июля).
Опыт воображаемого фестиваля
Октябрь 1993 г.
Когда Лемюэль Гулливер, судовой врач, а позднее капитан корабля, в 1726 году поведал о своих необычайных путешествиях в отдаленные страны света, прежде всего — в страну лилипутов и страну великанов, он вряд ли сознавал, что ему довелось окунуться в одну из богатейших традиций европейской культуры. Зато это прекрасно понимал Джонатан Свифт, далеко не случайно отправивший своего героя сначала к беспардонным и суетливым человечкам ростом "не более шести дюймов", а затем — к добродушным гигантам ростом поболее каланчи. Создавая свою "антиутопию", настоятель Дублинского собора Св. Патрика определенно держал в памяти и античные мифы, и средневековые сказания, и, конечно же, бессмертного "Гаргантюа и Пантагрюэля".
Между тем великаны и карлики не просто время от времени "выныривали" в потоке времени и культуры — они, собственно говоря, никогда их и не покидали. Мы встречаем упоминания о них во флорентийских хрониках, описывающих городские праздничные шествия между 1439-м и 1537 годами, и узнаем здесь о диковинном наряде "великого Моргайте" из поэмы Пульчи, о том, что "Св. Августин" благодаря ходулям был ростом не менее пяти футов. Следы великанов и карликов обнаруживаются в елизаветинской драме: они присутствуют в придворных празднествах, маскарадах и комедиях-балетах при дворе Людовика XIV. В XVIII веке о них не забывают и сочинители ярмарочных пьес-сказок, и создатели живописных аллегорий, и знаменитый автор философских повестей Вольтер. Наконец в XIX столетии великаны и карлики находят приют в пантомимических спектаклях и комедийных бурлесках "низовых" театров Лондона и Парижа, в сатирической графике Домье, в творчестве многих его коллег и современников.
Можно подумать, что великаны вкупе с карликами способны раскрыть чуть ли не всю историю европейской культуры — этап за этапом...
Стойкая и на первый взгляд малопонятная привязанность к образам великанов и карликов в полной мере сохранилась и в современном искусстве и литературе. Вспомню наугад пьесу Луиджи Пиранделло "Горные великаны" и новеллу Томаса Манна "Маленький господин Фридеман", фильм Фолькера Шлендорфа "Жестяной барабан", герой которого, маленький мальчик, наотрез отказывается вырастать, и гигантских кукол, бывших непременными участниками постановок знаменитого театра "Бред энд Паппет"... А немецкий драматург Бото Штраус, видимо, не случайно назвал одну из самых известных своих пьес — "Большой и маленький".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
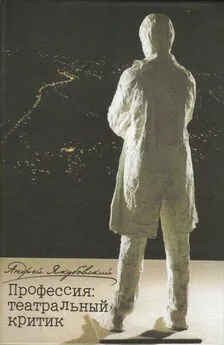

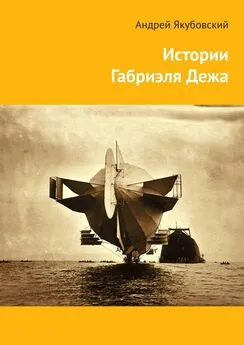

![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/1143258/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna.webp)