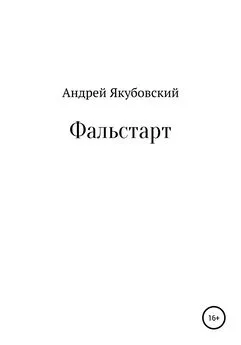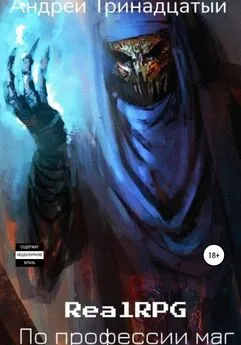Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
- Название:Профессия: театральный критик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик краткое содержание
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Профессия: театральный критик - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Великаны и карлики — это, как выясняется, образно-философский способ разобраться в природе человека, поточнее определить ее потенции, нравственный и физический ее "состав". "Большое" и "маленькое" потребно для установления нормы, для ответа на вопрос из числа вечных: что есть человек, каким он может и должен быть. Когда-то Гёте сказал, что между двумя крайностями лежит проблема. В данном случае между великанами и карликами, по всей вероятности, пролегает один из путей поисков человечности. Но не ее одной.
Права Раневская: великаны (и карлики) особенно "в сказках хороши". Театр, как бы серьезно к нему ни относиться, та же сказка, только с неисчерпаемым разнообразием вариантов и каждый раз новым взглядом на жизнь. Не исключено, что для самой жизни лучше было бы обходиться вовсе без карликов и великанов, пользоваться "услугами", так сказать, людей среднего роста. Но какой урон понесла бы тогда поэтическая фантазия, без которой мертво искусство и бесприютна сцена!
(Великаны и карлики на пространствах культуры // Независимая газета. 1993. 1 окт.).
На Третьем международном фестивале им. А. П. Чехова
Апрель 1998 г.
Чеховский фестиваль, который все время обещает.
Третий международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова длится уже месяц. Есть основания подвести первые "промежуточные" итоги. К сожалению, они мало утешительны.
У фестиваля много спонсоров, на него затрачено немало средств. Но пока что решительным образом неудовлетворителен результат всех этих усилий. Фестиваль никак не выходит на тот уровень спектаклей, о которых можно было бы сказать словами его организаторов: вот "самое интересное и талантливое, что есть в мировом театре". Более того — буду откровенен: среди представленных спектаклей есть такие, которые кажутся в программе такого престижного фестиваля необязательными и даже неуместными. Может быть, гость из Франции Оливье Пи, как сообщает программка, и в самом деле "с наслаждением облачается в платье берлинской певички" в спектакле "Кабаре мисс Найф", сочетающем бесшабашность с вопиющим дилетантизмом. С тем же видимым наслаждением он бегает перед публикой нагишом в претенциозно-сюрреалистической постановке "Лицо Орфея", в которой тщится придать поэтическую глубину трюизмам. Но понять, почему именно эти работы попали на чеховский фестиваль, право же, трудновато.
Уже показали свои работы американцы, французы, немцы. В объективной и непредвзятой критике прозвучала весьма любопытная интонация: что ж, пусть этот спектакль очевидно неудачен, мы с надеждой будем ожидать следующий! Сегодня, скажем, смотрим на редкость тусклую и невыразительную постановку "Шести персонажей в поиска автора"— надеемся и ждем "Короля-Оленя"! Сегодня смотрим вычурно-стилизованного и внутренне холодного "Короля-Оленя" — ждем разрекламированных немецких "Трех сестер"! Обнаруживаем в "Трех сестрах" необременительный тип "новаторского" прочтения Чехова, в котором акцентируются всеми мыслимыми средствами кладбищенские мотивы и герои, расплывшиеся, одряхлевшие, со стертыми физиономиями, волею режиссера Кристофа Марталера помещены то ли в богадельню, то ли в лечебницу для страдающих изъянами опорно-двигательного аппарата. Ждем "Медею" из Штутгарта. Смотрим "Медею" — сниженную и обытовленную, лишенную напряжения и остроты, с хором, напоминающим работниц текстильной фабрики в обеденный перерыв, и запоздавшими, ненужными пожароопасными эффектами под занавес — ждем... и так далее.
Можно сказать, что у фестиваля даже сложилась на сегодняшний день своеобразная "драматургия" с невыразительной экспозицией, проблематичными кульминациями и весьма странными отношениями со зрителем. Перед началом спектаклей, когда повсюду разгуливают охваченные дежурным энтузиазмом корреспонденты ТВ и радио, зрители, полные радостных предвкушений, весело толпятся у входа в театр. В антракте — значительная их часть, грустная и разочарованная, быстро разбирает свою одежду в гардеробе и отправляется восвояси.
Но, позвольте, разве не к зрителю в самом важном и решающем своем итоге адресуется фестиваль?
Выясняется, что самые благие намерения без убедительного подтверждения уровнем самих спектаклей обречены. И обещание "открытости всему новому и талантливому", благородное стремление "укреплять чувство всемирного театрального братства". И даже такая понятная готовность посвятить фестиваль столетию МХАТа. При отсутствии художественных потрясений, без того, что можно было бы назвать событийностью в искусстве театра, фестиваль мало-помалу рискует превратиться в светскую "тусовку" с участием международной и отечественной театральной элиты, протекающую на глазах зрителя, впечатленного, к сожалению, пока что одним только этим фактом. Это заставляет задуматься о несовершенстве изначальной концепции фестиваля. "Открытость" поставила его под угрозу понижения творческого уровня и случайного подбора спектаклей.
Фестиваль продолжается. Призовем зрителя настроиться на стоический лад. И вместе с ним будем терпеливо ожидать встречи с "живой легендой французской сцены" Арианой Мнушкиной, с окруженным плотной завесой тайны Бобом Уилсоном. Надежда, как известно, умирает последней!
(Мы еще увидим небо в алмазах? На Третьем международном фестивале им. А. П. Чехова // Культура. 1998. 29 апр.).
Зарубежная программа Третьей Всемирной театральной олимпиады в Москве
Июнь 2001 г.
Если сравнивать Олимпиаду с последним Чеховским фестивалем (а такое право имеется, поскольку, по замыслу устроителей, она одновременно является очередным Четвертым фестивалем им. А. П. Чехова), то следует отметить не только неизмеримо большую широту выбора театральной продукции, представленной на Олимпиаде, но и значительно возросшие строгость и осмысленность ее отбора. Можно сказать, что в большинстве случаев не возникало вопроса — почему именно этот театр, этот спектакль явлен вниманию московского зрителя, что прежде случалось сплошь и рядом. Это отрадно.
Однако же восхищения самим фактом проведения Олимпиады в Москве явно недостаточно, а общетеатральные зрительские восторги малопродуктивны. В течение двух месяцев, преодолевая время и пространство, мы жили в теснейшем контакте с мировой театральной культурой, ежевечерне погружались в "материю" мирового театра. Естественно, уже сегодня, подводя самые первые, предварительные итоги виденному в московских театрах, ставших на время гостеприимным вместилищем театра мирового, хотелось бы ощутить движение современного театрального процесса, уловить в прихотливом и переменчивом рисунке различных театральных просмотров некую его логику. При том, что Олимпиада в определенной мере давала такую уникальную возможность, следует сразу же сказать о трудности даже самого предварительного осмысления увиденного. Хорошо было газетным критикам, которые ограничивались описанием виденного и давали непосредственно-эмоциональную оценку тому или иному отдельному театральному явлению. Совсем другое дело — попытка подняться над эмпирикой описаний и сиюминутными эмоциями, вызванными спектаклями, попытка понять — что же это все, взятое вместе, значит?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
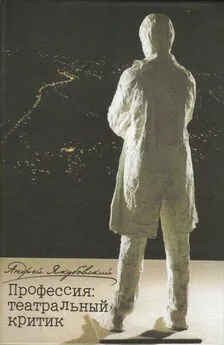

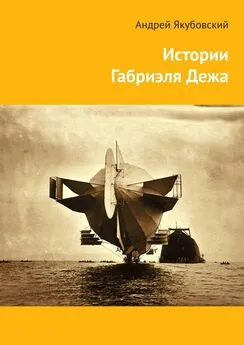

![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/1143258/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna.webp)