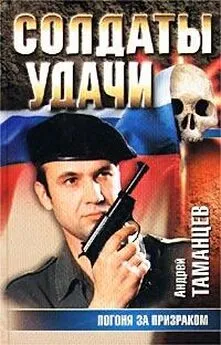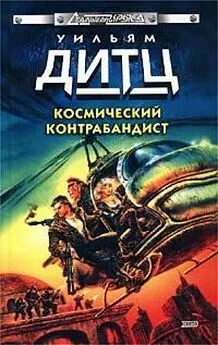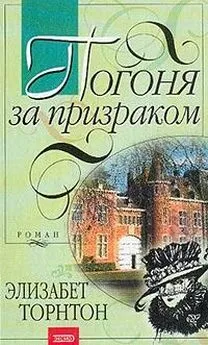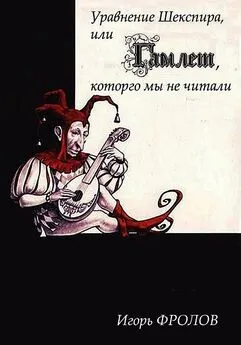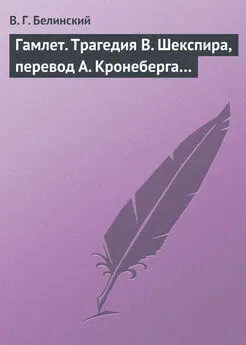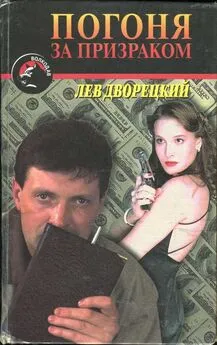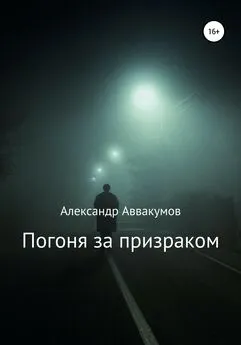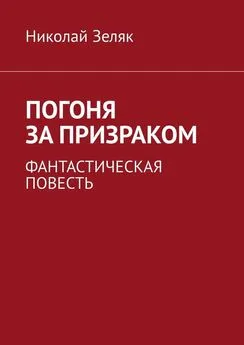Петр Попов - Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира Гамлет
- Название:Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира Гамлет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Попов - Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира Гамлет краткое содержание
Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира Гамлет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да и что такое слово? – Оно лишь материальная оболочка, за которой скорее скрывается (а не выявляется) смысл действий, поступков, целей и мотивов персонажей. Чтобы понять содержание, есть только один способ: «забыть» о словах, уйти от их видимой и примитивной кажимости смысла и рассмотреть пьесу в действии, пользуясь методом действенного анализа именно так, как этим методом в режиссуре пользовались Станиславский, Кнебель, Эфрос... И только потом, поняв действенно-мотивационную структуру вещи, можно вновь вернуться к тексту, к «словам», которые заиграют для нас новыми, доселе неведомыми красками, и откроют, наконец, свой подлинный смысл. Итак, не от текста к действию, а наоборот: от действия, от конфликта, от ситуации – к тексту! Только такой путь позволит нам непосредственно, без шор чужих трактовок и представлений, взглянуть на пьесу и понять ее.
Конечно, и здесь нет никакой гарантии, что мы обретем, наконец, знание желанной истины. Истина, как призрак, манит нас и грозит в любой момент ускользнуть. Но почему бы не попробовать поймать этот призрак, если нам кажется, что найден способ, позволяющий это сделать? При этом мы ни в какой мере не собираемся полностью отождествлять свое сознание с сознанием Шекспира: многое в его творчестве сегодня нам столь исторически чуждо, что не видеть это, не совершая над собой насилия, – просто невозможно. Мы будем пытаться, как это делалось при постановке спектакля, сцена за сценой восстанавливать ситуации, созданные Шекспиром, и пробовать осмысливать их, стремясь постичь мотивы, движущие героями.
Пусть наша попытка – всего лишь очередная погоня за призраком. Вперед, в погоню! Ибо, вероятно, в жизни важен не достигнутый результат, а борьба за его достижение. Результат – миг, погоня за ним – вся жизнь. Призрак манит нас.
Bсe манит он. Дорогу, господа!
Я в духов превращу вас, только троньте!
Прочь, сказано! – Иди. Я за тобой.
Перевод Б.Л.Пастернака
Однако прежде чем безоглядно пуститься в путешествие по сценам трагедии, необходимо несколько слов сказать о переводе, которым мы будем пользоваться. Когда речь идет о переводном тексте, всегда рискуешь быть не вполне точным. Возникает необходимость сличения разных переводов, их редакций. При этом каждый режиссер выбирает тот вариант перевода, который наилучшим образом соответствует его режиссерскому пониманию пьесы, а не тот, который наиболее точно отражает авторский текст. Подход же к анализу текста с точки зрения его событийной и действенной структуры практически снимает эту проблему.
Знакомство с массой переводов «Гамлета» не дало почти ничего нового и существенного для понимания происшедших в трагедии событий. Собственно говоря, свою режиссерскую мысль я мог бы с равной степенью убедительности воплотить в любом из существующих переводов.
Почему же тогда именно Пастернак?
– Прежде всего, пожалуй, потому, что подавляющее большинство постановок сегодня (включая и фильм Г. Козинцева) осуществляется в этом переводе. Он стал как бы русским эквивалентом оригинала, канонизированной нормой, и уже всякий другой перевод на слух воспринимается как некое отступление от этой «нормы», что может породить до- полнительные оценки квалифицированного зрителя, который неизбежно начнет искать смысл в отступлениях от привычного звучания текста. А это совершенно излишне! И так в моем спектакле слишком много отступлений от привычных канонов и стереотипов. Зачем же их умножать там, где это совершенно не требуется?
Сам же по себе перевод Б.Л. Пастернака стал основой для большинства отечественных постановок, вероятно, совершенно закономерно. Всякий другой перевод рядом с ним раздражает своей корявостью, художественной неполноценностью и туманностью. Невнятность смысла у различных переводчиков – результат несовершенства их литературной работы, а не попытка воссоздания духа оригинала, «загадочность» многих мест которого, тоже зачастую относится скорее всего к области шекспироведческой мифологии, а не реальному положению вещей. Знаменитые «темные» места трагедии и в подлиннике, и в переводе Пастернака, становятся абсолютно ясными и логичными при рассмотрении их с точки зрения сценического действия. И тогда текст начинает играть свежими и удивительно выразительными красками.
Поражает сравнение перевода Пастернака с прозаическим переводом М.М. Морозова – признанным академическим эталоном точного воплощения смысла текста трагедии. Как виртуозно поэт находит стихи, точнейшим образом воплощающие мысль и художественный строй первоисточника. Создается впечатление, что переводчик с удивительной легкостью чуть «подправляет» Морозова и как бы играючи заключает фразы в стихотворную форму. На самом же деле это, конечно, далеко не так. Существует огромное количество разночтений и вариантов перевода у Пастернака, которые мы сличали по разным изданиям, отбирая для себя то, что нам казалось наиболее подходящим. И всякие попытки взять переводы других авторов оказывались куда менее убедительными. Они проигрывали во всех отношениях, кроме разве что одного: кажется, будто Пастернак стыдливо избегает пресловутых непристойностей и грубости Шекспира. Действительно, «выражается» он очень осторожно и целомудренно. Ну и что же? Мы, в конечном итоге, пользовались преимущественно вариантом перевода издательства «Детская литература». Уж куда стыдливее! Но сколько же человеческой грязи и непристойности существует и в этом невиннейшем переводе, разумеется, не в словах, а в человеческих отношениях. И в «Детгизовской» книжке не скрыть мерзость противоестественных отношений Гильденстерна и Розенкранца, о чем прекрасно известно Гамлету (если только в прошлом он сам не был их участником). А чего стоит этот его вопль: «Рады стараться, будь она нам хоть десять раз матерью». – Что за «Рады стараться»? – Неужто «темное место»? Да нет. В стране, где брат может убить брата, а потом стать мужем своей свояченицы, – почему бы и сыну не стать любовником собственной матери. Вот и все! Так что грубости и непристойности хватает, другой вопрос – в какой степени есть необходимость их обнаруживать, что дают они для выявления содержания трагедии.
Сам же Пастернак, судя по всему, совершенствовал свой перевод в направлении его все более последовательной объективизации. Особенно это становится наглядно при сличении перевода Б.Л. Пастернака с переводом К.Р., наиболее во многом близком Пастернаковскому и, по многим признакам, послужившим Борису Леонидовичу как бы отправной точкой в работе. (Сомнительно, что Пастернак мог не знать этот перевод, а некоторые текстуальные совпадения и творческие заимствования говорят о том, что не только знал, но и внимательно изучал). Но перевод К.Р. в одном отношении принципиально отличен от перевода Пастернака: в нем Гамлет максимально приближен к пониманию и трактовке образа Датского принца у Гете, в нем последовательно смягчены все «отрицательные» характеристики и самого принца, и его отца, и Фортинбраса. Он очень похож на то, чего добился Козинцев сокращениями Пастернаковского (и Шекспировского) текста трагедии, выхолостив всю его многозначность и сведя содержание характера главного героя к благополучно-сентиментальному Гамлету – идеальному герою, похожему скорее всего на восприятие его влюбленной и наивной Офелией:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: