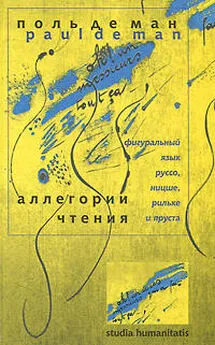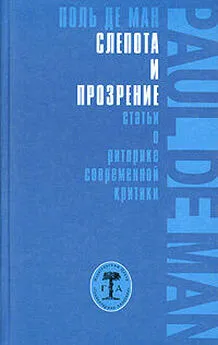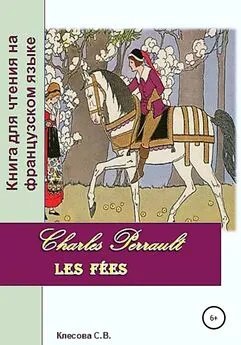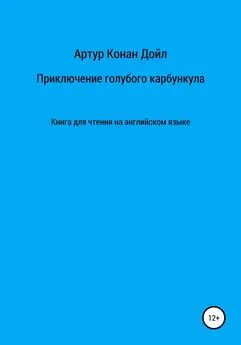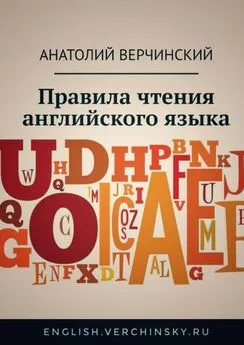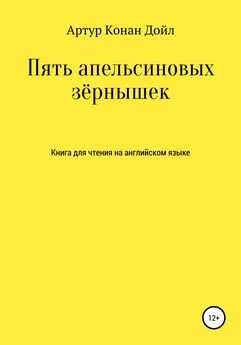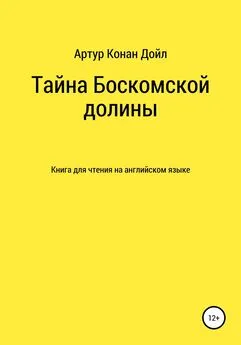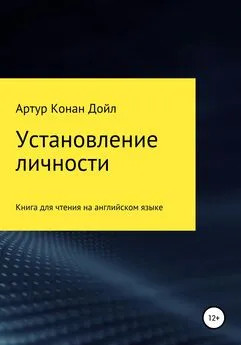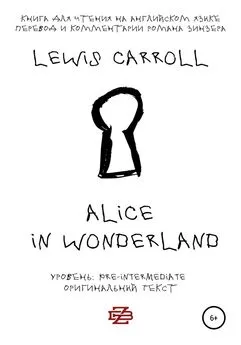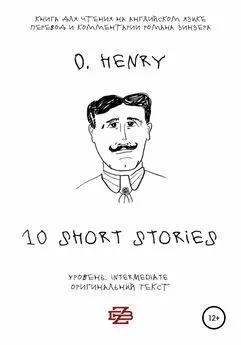Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
- Название:Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Уральского Университета
- Год:1999
- ISBN:5-7525-0721-9, 5-0441-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста краткое содержание
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.
Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
утонченные почти что до совершенства техники структурного анализа, мы сумели бы отправиться в страну, лежащую «по ту сторону формализма», и обратиться к вопросам, и в самом деле интересующим нас, наконец пожиная плоды аскетической сосредоточенности на техниках, готовивших нас к этому решительному шагу. Прекрасно устроив внутренние дела и порядок литературы, мы можем теперь уверенно посвятить себя иностранным делам, внешней политике литературы. И мы не только поступаем так, но и чувствуем, что обязаны совершить этот шаг: наше моральное сознание не позволяет нам вести себя иначе. За уверенностью в возможности точного истолкования, за модным увлечением письмом и чтением как потенциально эффективными публичными речевыми актами скрывается весьма почтенный моральный императив, требующий согласовывать внутренние, формальные, частные структуры литературного языка с его внешними, референциальными, общественными действиями.
И вот я намереваюсь рассмотреть эту тенденцию в себе как неоспоримый и периодически повторяющийся исторический факт, не задаваясь вопросом ни об истинности ее или ложности, ни о значимости — желательности или пагубности. Такое время от времени случается в литературоведении, и это просто факт. С одной стороны, литературу нельзя воспринимать как всего лишь особый случай референциального значения, поддающийся декодированию без остатка. Код слишком очевиден, сложен и загадочен; он привлекает непомерное внимание к себе самому, и этому вниманию приходится приобретать строгость метода. Невозможно обойтись без структуральной сосредоточенности на коде ради него самого, и литература всегда вынашивает свой собственный формализм. Технические нововведения в методологии литературоведения появляются только тогда, когда такого рода внимание становится преобладающим. Например, справедливо замечено, что, с точки зрения техники, в американской литературной критике со времени публикации новаторских работ «новой критики» не случилось почти ничего нового. Конечно, с тех пор появилось много превосходных литературно-крити- ческих исследований, но ни в одном из них техники описания и истолкования не превзошли техники тщательного чтения, созданные в тридцатые и сороковые годы. Формализм кажется всепоглощающей и тиранической музой; надежду на одновременное достижение технической оригинальности и дискурсивного красноречия не изгнать из истории литературной критики никогда.
С другой стороны — и это самая настоящая загадка — никакому литературному формализму, каким бы точным и обогащающим в своей аналитической силе он ни был, не дано возникнуть, не показавшись редуктивным. Когда форму рассматривают как внешнее украшение литературного значения, или содержания, она кажется поверхностной и ею не дорожат. Развитие внутренней формалистической критики в двадцатом столетии изменило эту модель: сегодня форма — это солипсистская категория саморефлексии, а про референциальное значение говорят, что оно внешнее. Полюса внешнего и внутреннего поменялись местами, но это все те же полюса: внутренний смысл стал внешней референцией, а внешняя форма стала внутренней структурой. Сразу же вслед за этой переменой мест возникла новая форма редукционизма: в наши дни формализм по большей части описывается в тюремных образах и образах клаустрофобии («тюрьма языка», «тупик формалистической критики» и т. д.). Подобно бабушке из романа Пруста, тщетно пытавшейся отвлечь юного Марселя от нездорового самопогружения, вызванного чтением в замкнутых пространствах, выманив его в сад, критики верят в пользу свежего воздуха референциального значения. Вспомнив о непроницаемости структуры кода и притягательности значения, заставляющей преодолевать препятствие формы, перестаешь удивляться тому, сколь заманчивым может быть согласование формы и значения. Искушение согласованием — вот преимущественный источник фальшивых моделей и метафор; он в ответе за метафорическую модель, уподобляющую литературу коробке, отделяющей внутреннее от внешнего, а читателя или критика—тому, кто открывает крышку, стремясь высвободить утаиваемое, но недоступное «внутри». Не столь уж важно, называем ли мы внутренность коробки содержанием или формой, а внешний мир — значением или поверхностью. Постоянные споры, противопоставляющие внутреннюю критику внешней, протекают под защитой метафоры «внутри/вовне», в которой никто никогда всерьез не сомневался.
Метафоры куда упрямее фактов, и я, конечно, не рассчитываю избавиться от этой старой модели с первой же попытки. Мне просто хотелось бы поразмышлять о другой группе терминов, которая, может быть, в силу своих многообразных внутренних отношений, не столь проста, как строгая полярность, бинарная оппозиция внутреннего и внешнего, и оттого не склонна вступать в легкомысленную игру взаимных превращений. Я получаю эти термины (древние как мир) практическим путем, исходя из наблюдений за событиями и спорами вокруг современной литературно-критической методологии.
Одно из таких событий — возникновение нового подхода к поэтике, или, как ее называют в Германии, к поэтологии, представляющего ее частью общей семиотики. Во Франции семиология литературы появляется вследствие долго откладывавшейся, но тем более бурной встречи живой французской литературной мысли с категорией формы. В противоположность семантике семиология — это наука, или исследование, знаков как означающих; она задается не вопросом о том, что значат слова, но вопросом о том, как они значат. В отличие от американской «новой критики», которая интериоризирует форму, основываясь на исследованиях практики крайне самокритичных современных писателей, французская семиология в поисках модели обращается к лингвистике и почитает своими учителями Соссюра и Якобсона, а не Валери или Пруста. Если учесть произвольность знака (Соссюр) и то, что литература — самодовлеющее высказывание, «фокусом которого становится его способ выражения» (Якобсон), то можно заключить в скобки сам вопрос о значении, освобождая таким образом критический дискурс от изнуряющей ноши пересказа. В рамках французской исторической и тематической критики семиология обрела значительную демистифицирующую силу. Она показала, что восприятие литературных аспектов языка чрезвычайно затруднено некритическим использованием авторитета референции. Кроме того, она открыла, на- сколько упорно и сегодня отстаивает свои права этот авторитет, скрываясь под разнообразными масками, от неприкрытой идеологии до самых утонченных форм эстетического и этического суждения. В частности, она подорвала веру в миф о семантическом соответствии знака и референта, сильнейшую надежду иметь и то и другое, быть, перефразируя «Немецкую идеологию» Маркса, критиком-формалистом утром, а общественным моралистом вечером, служить и технике формы, и субстанции значения. Результаты, проявившиеся в практической французской критике, столь же плодотворны, сколь односторонни. Быть может, впервые с конца восемнадцатого века французские критики могут подойти хотя бы чуть ближе к своеобразной лингвистической осведомленности, которую никогда не переставали проявлять французские поэты и романисты, что и заставляло их всех, включая и самого Сент-Бева, писать «против Сент-Бева». Дистанция никогда не была столь значительной в Англии и Соединенных Штатах, что не означает, однако, будто мы в состоянии вообще обойтись без превентивной семиологической гигиены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: