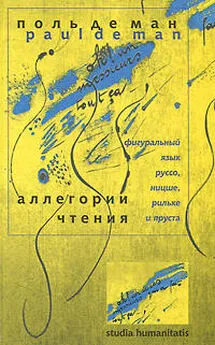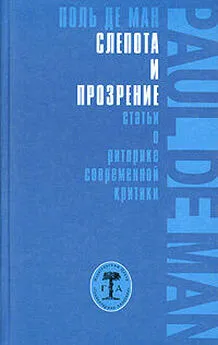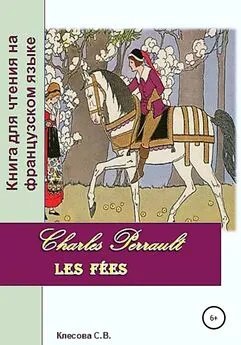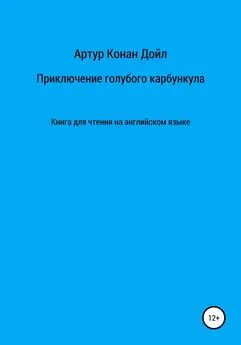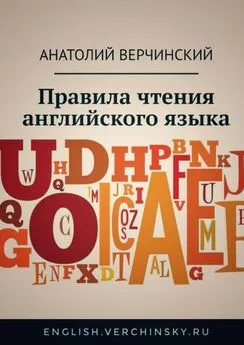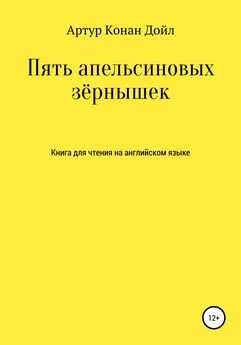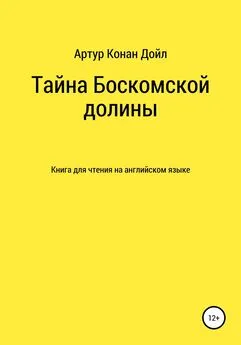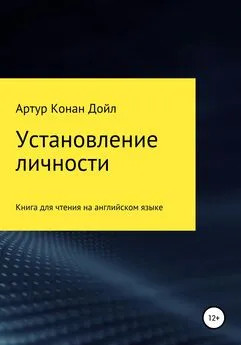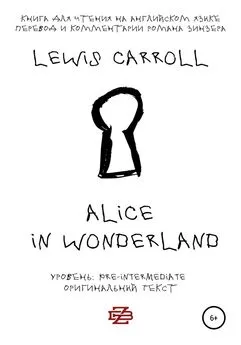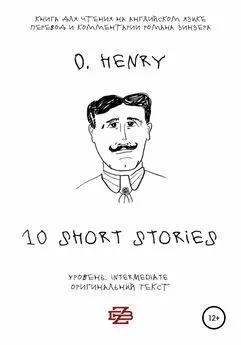Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
- Название:Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Уральского Университета
- Год:1999
- ISBN:5-7525-0721-9, 5-0441-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста краткое содержание
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.
Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот поэтому все настоятельнее становится необходимость узнать, какое лингвистическое содержание включено во внимательное к риторическим особенностям текста чтение, похожее на то, что было здесь представлено на примере истолкования короткого отрывка из романа, и на то, что было распространено Ницше на весь текст постэллинской мысли. Наши первые примеры, рассматривающие риторические вопросы, были риторизацией грамматики, в которой фигуры созданы по синтаксическим образцам, тогда как пример Пруста лучше всего описать как грамматизацию риторики. Переход от основанной на подстановке парадигматической структуры, вроде метафоры, к основанной на случайной ассоциации синтагматической структуре, вроде метонимии, вызван механическим, повторяющимся аспектом грамматических форм, хотя можно показать, что он используется в отрывке, который на первый взгляд кажется прославением самовольной и независимой изобретательности субъекта. Предполагается, что фигуры — это изобретения, продукты деятельности подчеркнуто индивидуального таланта, тогда как никто ведь не гордится использованием программируемых образцов грамматики. И все же наше прочтение отрывка из Пруста показывает, что именно тогда, когда произносятся возвышеннейшие призывы к объединяющей силе метафоры, сами образы на деле зависят от вводящего в заблуждение использования полуавтоматических грамматических образцов. Деконструкция метафоры и всех риторических образцов — мимесиса, парономазии, или олицетворения, использующих сходство как способ скрыть различия, возвращает нас вспять к безличному совершенству грамматики и семиологии, производной от грамматических образцов. Такое чтение подвергает сомнению целые ряды понятий, на которых основываются ценностные суждения критического дискурса наших дней: метафоры первичности, генетической истории и, что самое примечательное, метафору независимой воли «я» к власти.
Итак, можно считать, что существует различие между тем, что я называю риторизацией грамматики (как в случае риторического вопроса), и грамматизацией риторики (как в прочтениях того типа, набросок которого дан в связи с обращением к отрывку из Пруста). Первая завершается неопределенностью, колеблющейся неуверенностью, неспособностью выбрать один из двух модусов прочтения, тогда как последняя, как будто приходит к истине, хотя и следуя негативным путем разъяснения заблуждения, несостоятельности претензии. Прочитав отрывок из Пруста риторически, мы уже не в силах поверить в высказанное в нем утверждение о подлинном метафизическом превосходстве метафоры над метонимией. Похоже, мы завершаем истолкование в столь продуктивном для критического дискурса состоянии уверенности в том, что все не так. Дальнейший текст романа Пруста, например, вполне подходит для расширенного применения этого образца: не только потому, что подобные же действия можно применить еще не раз на протяжении всего романа ко всем его важнейшим утверждениям или во всех тех местах, что отличаются значительными эстетическими или метафизическими притязаниями (в сцене невольного воспоминания, в сцене в мастерской Эльстира, в сцене с септетом Вентейля, в сцене слияния автора и рассказчика в конце повествования), но и потому, что с его помощью обнаруживается широкая тематическая и семиотическая сеть, которая структурирует все повествование в целом и которая невидима читателю, захваченному наивной мистификацией метафоры. Да и вся литература подходит для этого, хотя техники и образцы, конечно же, значительно изменяются при применении их к различным авторам. Но нет абсолютно никаких причин считать методы анализа, подобные тем, что были здесь использованы для истолкования Пруста, неприменимыми — при условии внесения подобающих изменений в технику — к Мильтону, или к Данте, или к Гельдерлину. Можно сказать, что такая задача встанет перед литературной критикой в ближайшем будущем.
Может показаться, будто мы называем критику деконструкцией литературы, сведением мистификаций риторики к строгим правилам грамматики. И, считая Ницше философом такого рода критической деконструкции, литературный критик становится союзником философа в его борьбе с поэтами. Критика и литература как будто бы оказываются по разные стороны эпистемологической границы, разделяющей грамматику и риторику. Нетрудно убедиться, что подобное прославление критика-философа от имени истины — это на самом деле прославление поэта как первоистока истины (если истина — это выявление систематического характера определенного рода заблуждения, тогда она полностью зависит от пред- существования этого заблуждения). Широко известно, насколько такие философы, как Башляр и Витгенштейн, зависимы от заблуждений поэтов. Мы возвращаемся к нашему вопросу без ответа: заканчивается ли грамматизация риторики уверенностью в получении отрицательных результатов или и она, как риторизация грамматики, приводит к неопределенности, в силу неведения своей истинности или ложности?
Два заключительных замечания должны представить ответ на этот вопрос. Во-первых, неверно, что текст Пруста можно просто свести к мистифицирующему утверждению (о превосходстве метафоры над метонимией), деконструированному нашим прочтением. Прочтение «нам» не принадлежит, поскольку мы используем в нем только лингвистические элементы, предоставленные нам самим текстом; различение автора и читателя — это одно из тех различений, ложность которых становится вполне очевидной по ходу чтения. Деконструкция — это не наша добавка к тексту, но как раз то, что в первую очередь и конституирует текст. Литературный текст одновременно утверждает и отрицает авторитет своего собственного риторического модуса, и, читая текст так, как мы- его читаем, мы всего лишь пытаемся приобрести статус столь же строгого читателя, сколь строгим должен быть автор для того, в первую очередь, чтобы высказаться. Поэтическое письмо — это и есть самый утонченный и передовой модус деконструкции; он может отличаться от критического или дискурсивного письма экономией артикуляции, но не видом.
Но если мы признаем, что такой момент существует и что он конституирует весь литературный язык, мы задним числом вновь введем те категории, которые деконструкция устранила, и те, которые были просто замещены ею. Мы, например, замещаем вопрос о «я» референта вопросом о «я» фигуры рассказчика, который в таком случае становится signifie отрывка. И оказывается, снова можно задавать такие наивные вопросы, как вопрос о возможных мотивах того манипулирования языком, которому предается Пруст, или Марсель: стремился ли он к самообману или представлялся обманувшим себя и нас своей уверенностью в том, что вымысел и действие так легко соединить процессом чтения, как то утверждает отрывок? Пафос всего этого раздела, постоянное колебание рассказчика между чувством вины и блаженством, колебание, которое стало бы заметнее, расширь мы цитату, вынуждает к такого рода вопросам. Конечно, такие вопросы абсурдны, поскольку согласование факта и вымысла проявляется как простое утверждение, сделанное в тексте и, таким образом, продолжающее производство текста в тот самый момент, когда сам текст утверждает, что решил преодолеть ограничение текстуальности. Но даже если мы освободимся от всех ложных вопросов о замысле и справедливо отведем рассказчику статус простого граматического местоимения, без которого не началось бы повествование, функция этого субъекта все же не только грамматическая, но и риторическая, поскольку он, так сказать, становится голосом грамматической синтагмы. Термин «voice» [7] Англ.: 1) голос: 2) залог.
, даже когда он используется в грамматической терминологии, например, когда мы говорим о пассивном или вопросительном залоге,— это, конечно, метафора, выводимая из структуры предиката по аналогии с замыслом субъекта. В случае деконструктивного дискурса, который мы называем литературным, или риторическим, или поэтическим, это создает определенные сложности, иллюстрацией которых может послужить отрывок из романа Пруста. Прочтение открывает первый парадокс: отрывок превозносит метафору как «правильную» литературную фигуру, но затем приступает к само- конституированию посредством эпистемологически несопоставимой с ней фигуры — метонимии. Критический дискурс обнаруживает обман и подтверждает, что это — неизменяемый модус его истины. Однако останавливаться на этом нельзя. Ибо если мы затем зададимся следующим очевидным и простым вопросом о том, является ли риторический модус рассматриваемого текста метафорическим или метонимическим, окажется, что дать ответ невозможно. Отдельные метафоры, такие, как эффект светотени или мотылек, оказываются подчиненными изложению в целом с его метонимическим синтаксисом; с этой точки зрения кажется, что риторика заменена деконструирующей ее грамматикой. Но субъектом метонимического изложения оказывается голос, относящийся к изложению опять-таки метафорически. Рассказчик, повествующий о невозможности метафоры, сам по себе становится или делается метафорой, метафорой грамматической синтагмы, а значением этой последней оказывается отрицание метафоры, высказанной, по антифразису, как ее первичность. А этот субъект-метафора, в свою очередь, открыт своеобразной деконструкции во второй степени, риторической деконструкции психолингвистики, в области которой сегодня, вопреки серьезному сопротивлению, проводятся самые передовые исследования литературы.
Интервал:
Закладка: