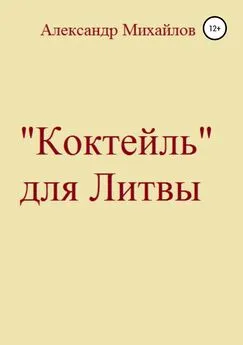Александр Михайлов - Языки культуры
- Название:Языки культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки русской культуры
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7859-0014-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Михайлов - Языки культуры краткое содержание
Тематику работ, составляющих пособие, можно определить, во-первых, как «рассуждение о методе» в науках о культуре: о понимании как процессе перевода с языка одной культуры на язык другой; об исследовании ключевых слов; о герменевтическом самоосмыслении науки и, вовторых, как историю мировой культуры: изучение явлений духовной действительности в их временной конкретности и, одновременно, в самом широком контексте; анализ того, как прошлое культуры про¬глядывает в ее настоящем, а настоящее уже содержится в прошлом. Наглядно представить этот целостный подход А. В. Михайлова — главная задача учебного пособия по культурологии «Языки культуры». Пособие адресовано преподавателям культурологии, студентам, всем интересующимся проблемами истории культуры
Александр Викторович Михайлов (24.12.1938 — 18.09.1995) — профессор доктор филологических наук, заведующий отделом теории литературы ИМЛИ РАН, член Президиума Международного Гетевского общества в Веймаре, лауреат премии им. А. Гумбольта. На протяжении трех десятилетий русский читатель знакомился в переводах А. В. Михайлова с трудами Шефтсбери и Гамана, Гредера и Гумбольта, Шиллера и Канта, Гегеля и Шеллинга, Жан-Поля и Баховена, Ницше и Дильтея, Вебера и Гуссерля, Адорно и Хайдеггера, Ауэрбаха и Гадамера.
Специализация А. В. Михайлова — германистика, но круг его интересов охватывает всю историю европейской культуры от античности до XX века. От анализа картины или скульптуры он естественно переходил к рассмотрению литературных и музыкальных произведений. В наибольшей степени внимание А. В. Михайлова сосредоточено на эпохах барокко, романтизма в нашем столетии.
Языки культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
508
Ast F. System der Kunstlehre… (1805) // Romantheorie / Hrsg. von E. Lдmmert. Kцln, 1971, § 214, S. 228.
509
Не случайно поэтому предположение (Роде Э., 1876; Бюргер К., 1892) о том, что дошедший до нас текст Ксенофонта Эфесского есть лишь сокращение романа, хотя такое предположение и отвергнуто. См.: Xenophontis Ephesii Ephesiacorum libri V / Rec. A. D. Papanikolaou. Leipzig, 1973, p. VII.
510
Литературное наследство. M.: Наука, 1973, т. 86, с. 1.
511
Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М.: ГИХЛ, 1958, т. 8, с. 628.
512
Оно, по возможности, перекладывается на плечи рассказчика и объективизируется в его образе.
513
Huet P. D. Traitй de l’origine des romans / Hrsg. von H. Hinterhдuser. Stuttgart, 1966, S. 9.19 und 107.4. Соответственно (S. 11.4 и 107.22) романы — это вымышленные, но вероятные вещи (fictions des choses и auЯgezierte Sachen, т. e. вымышленные и риторически украшенные).
514
Ср.: Barner W. Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen. Tьbingen, 1970, S. 372 u. a.
515
Broch H. Op. cit., S. 96.
516
Augustinus, quaest. evang. 2, 51. Цит. по: DyckJ. Ticht-Kunst. Deutsche Poetik und rhetorische Tradition. 2. Aufl. Bad Homburg, 1969, S. 145.
517
Solger K. W. F. Ьber die «Wahlverwandtschaften» // Meisterwerke deutscher Literaturkritik / Hrsg. von H. Mayer. 2. Aufl. Berlin, 1956, Bd. I, S. 761. Ср. глубокие соображения о романизации литературных жанров в XIX в. у М. М. Бахтина (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975, с. 450).
518
Ср. замечание М. Гаспарова в комментариях к его переводу «Поэтики»: «Эмпедокл, автор поэмы „О природе“ V в., в другом месте „О поэтах“, фр. 70, назван у Аристотеля „гомеричнейшим“; но это не отменяет факта, что „по предмету подражания“ он не поэт» (Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978, с. 113).
519
См.: Ficher J. Gebundene Rede. Dichtung und Rhetorik in der literarischer Theorie des Barock in Deutschland. Tьbingen, 1968, S. 22 («Различие поэтики и риторики — не столько в сфере ars <���искусства, науки>, сколько в конечном итоге практического их применения, в художественном продукте»). Ср.: Ibid., S. 35 («Различие поэзии и красноречия дается существенно легче, нежели теоретическое размежевание поэтики и риторики»).
520
Цит. по: DyckJ. Op. cit., S. 13.
521
Ibid., S. 28–29.
522
Цит. по: Ibid., S. 31. Цитата из: Harsdцrffer G. Ph. Poetischer Trichter (1653). Nьrnberg, Bd. 3. Vorrede.
523
Cm.: Fischer L. Op. cit., S. 22. 83.
524
О возникновении самого слова «роман» в средневековой Романии, единой культуре романских народов, см. замечания у Э. Р. Курциуса (Curtius E. R. Europдische Literatur und lateinisches Mittelalter. 9. Aufl. Bern; Mьnchen, 1978, S. 41–42).
525
Теоретический уровень трактата Юэ, который, кстати говоря, в качестве предисловия предварял роман «Заида» (1670) Ж. Р. де Сегре (и мадам де Jla- файет), следует считать безусловно высоким: в нем — конспект будущего литературоведческого осмысления романа вплоть до конца XIX в.; различные мотивы литературоведения, характерные оценки представлены у Юэ в кратком виде, в зародыше.
526
Ср.: Fischer L. Op. cit., S. 28. Слово «роман» применялось к различным повествовательным жанрам гораздо раньше эпохи барокко — так было, например, во Франции. Однако, по-видимому, и здесь «роман» становится понятием систематизируется, теоретически осмысляется только в эпоху барокко, — из непосредственного, рождающегося на корню, окказионального, живого словоупотребления вырабатывается крайне широкое и «бесконтурное», но внутренне центрированное понятие, принципиально относимое к прозе.
527
Theorie und Technik des Romans im 17. und 18. Jahrhundert / Hrsg. von D. Kim pel und C. Wiedemann. Tьbingen, 1970, Bd. I, S. 41.
528
Ibid.
529
Cm.: Huet P. D. Op. cit., S. 6–7,105.
530
«Поэт — больше творец сказаний (tцn mythцn), чем метров» («Поэтика», 9, 1451 b 27).
531
«Поэтика», 9, 1451 b 2–3. Пер. М. Гаспарова.
532
О роли Аристотеля в обсуждении романа как эпоса в XVI–XVIII вв. см. замечания в кн.: Jдger G. Empfindsamkeit und Roman. Stuttgart, 1969, S. 104–106. Всеобще распространено в риторической теории убеждение в том, что Аристотель говорил о возможности эпоса в прозе. Гл. XXIV «Поэтики» учит, напротив, тому, что в эпосе, если и не по внутренней необходимости, то в результате опыта, установится героический метр, гекзаметр: «Бели бы кто совершал повествовательное подражание (diлgлmaticлn mimлsin) другим метром или многими метрами, это показалось бы несообразным» (1459 b 32–33). «Вот почему никто не сочинял длинного склада (macran systasin) иначе, как героическим метром:, сама природа, как сказано, научила подбирать к такому <���складу> подходящий метр» (1460 а 2–4).
533
Необходимо сказать на этом месте о том, что автор настоящей работы в дальнейшем опирается в основном на материал немецкой истории литературы и литературной теории, как более ему известной. Нужно подчеркнуть, что это ограничение немецким материалом вызвано исключительно внешними обстоятельствами, а не внутренней необходимостью — логикой темы. Ту же самую проблематику, связанную со складыванием романного стиля, несомненно, можно было бы изучать, например, и на французской почве, где получающаяся картина была бы, видимо, сложнее и дифференцированнее (см.: Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М.: Наука, 1976; здесь во введении обсуждается и проблема романа как понятия и жанра). Немецкая литература менее известна большинству читателей и теоретиков литературы, чем французская, зато она, по-видимому, удобнее для изучения в том отношении, что исторически складывавшаяся конфигурация констант, приводящая к возникновению романа как жанра новой европейской литературы,' прослеживается здесь яснее, и благодаря этому (что весьма существенно) более очевидным становится принципиальное отличие новоевропейского романа от типов «романа» античного и средневекового.
534
Не должно удивлять то, что задачи риторики как дисциплины могли трактоваться несравненно более узко, так что, по суждению Гермогена (II–III вв.), не дело риторики разыскивать, что истинно прекрасно, полезно и т. п. (цит. по: Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz. Wien, 1972, S. 10). Но, как уже было сказано, риторическое предполагает несколько взаимосвязанных уровней, на которых риторическое как техника или прием обобщается до способа мысли и несущего истину бытия слова. В этом отношении Г. Хунгер справедливо отмечает, что влияние риторики распространялось на все жанры словесности и что, именно благодаря этому, «решение» христианских писателей — Евсевия Кесарийского, каппадокийских отцов церкви и других — примкнуть к античной риторической системе «оказалось определяющим для всего последующего развития» культуры (Ibid., S. 5). Как известно, сама свободная от «истины» риторическая техника с самого начала порождала негативные явления — заведомо холостой ход мысли в^иторических упражнениях, формальную игру словом, пустую и «праздную» (что на века пристало к обиходному слову «риторика»), однако и такая игра отражала, только негативно, сферу смысла, к которой причастно и с которой соопределено подлинное, схватывающее истину, слово.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





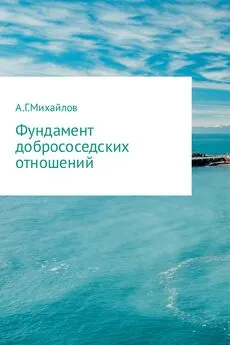
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)