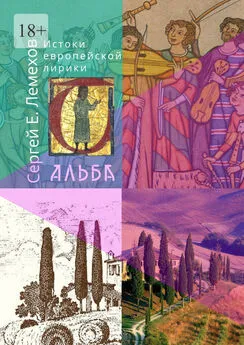Сергей Аверинцев - Риторика и истоки европейской литературной традиции
- Название:Риторика и истоки европейской литературной традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Школа «Языки русской культуры»
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-88766-001-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Аверинцев - Риторика и истоки европейской литературной традиции краткое содержание
Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как “жанр” и “авторство”. В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.
Риторика и истоки европейской литературной традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кичитесь вашей древностью, афиняне, —
Сократами, Платонами, Пирронами,
И славьте с Эпикуром Аристотеля;
А нынче вам остался лишь гиметтский мед,
Да тени предков, да могилы славные;
А мудрость — та живет в Константинополе.
Время работало против Минукиана — в числе других причин еще и по этой.
[103]
Kustas 1973, р. 5—26.
[104]
Ibid., р. 12.
[105]
По свидетельству словаря «Суда», статья о Порфирии.
[106]
Кустас особо ссылается в этой связи на переоценку темноты слога (ασάφεια): см. место, процитированное в прим. 104. Действительно, Аристотель безоговорочно видел в ясности — «достоинство слога» («Риторика», кн. III, 2, 1404в2, «Поэтика», 22, 1458а18), а в неясности — его порок. Нельзя отрицать, что с позицией Аристотеля явственно контрастирует позиция многих византийских теоретиков риторики. Например, Иоанн Доксапатр (XI в.) заявляет: «Не всякая темнота есть уже и порок речи: часто она бывает, напротив, достоинством» (Walz ed., vol, 2, p. 226). Примерно поколением раньше (см.: Hunger 1978, Bd. 1, S. 83 u. Anm. 57—58) Иоанн Сикелиот говорил о «достохвальной темноте» έπαινουμένη ασάφεια (см.: Walz ed., vol. 6, p. 199).
Но причем здесь специально Гермоген? Кустас не приводит никаких данных, которые свидетельствовали бы, что византийская доктрина о темноте как достоинстве восходит именно к нему; гермогеновский список качеств речи, так называемых идей, открывается, как назло, упоминанием «ясности» и не содержит никакого упоминания «темноты».
И еще два замечания к критике концепции Кустаса, в которой интеллектуализм и рационализм Аристотеля характеризует античную риторику в целом, высказывания отдельных византийских теоретиков в пользу «темноты» характеризуют мистический дух византийской риторики тоже в целом, и начало господства последнего отождествляется с творчеством Гермогена. Во-первых, Аристотель — вовсе не нормальный представитель античной риторической традиции, а скорее выразитель протеста против нее; его риторика — это риторика философа, полемически противостоящая риторике риторов (ср. рассказ о его выпадах против Исократа). Отнюдь не для всех античных теоретиков ясность — это ценность превыше всех ценностей. Вот выхваченный наудачу пример из «Письма к Помпею» Дионисия Галикарнасского: «Третье по порядку — так называемая сжатость (συντομία). В этом, кажется, Фукидид превосходит Геродота. Мне могут возразить, однако, что сжатость хороша только в сочетании с ясностью, а без нее она вызывает досаду. Однако не будем думать, что стиль Фукидида от этого становится хуже (776, пер. О. В. Смыки, см.: Античные риторики, с. 229).
Не будем говорить о теории «возвышенного» у Псевдо-Лонгина, оставляющей весьма мало места для культа ясности любой ценой, потому что загадочный трактат неизвестного ритора I в. н.э., оказавший такое влияние на новоевропейскую эстетику, стоит в истории античной риторической традиции особняком; но самая возможность такого исключения о чем-то говорит. Во-вторых, что касается византийской риторики, то для нее реабилитация уместной темноты не особенно типична и отнюдь не идет рука об руку с мистическим настроением. Иоанн Геометр, Иоанн Доксапатр и Иоанн Сикелиот (кстати говоря, люди одной эпохи и представители одной традиции, поскольку Доксапатр в своем цитированном выше рассуждении прямо ссылается на Иоанна Геометра, да и Сикелиот, по-видимому, от него зависим, хотя по своему обыкновению не склонен говорить о своих источниках, — ср.: Hunger. Op. cit.) образуют компактную и малочисленную группу и не могут представлять византийской риторики в целом; и едва ли они более «мистичны», нежели патриарх Фотий, который был энергичным поборником ясности слога и, между прочим, укорял еретика и рационалиста (!) Евномия за злонамеренное пользование стилистическими темнотами (Bibliotheca, cod. 138, 98а5—11; Kustas. Op. cit., p. 139, η. 6).
[107]
Ср.: Лосев I960, с. 379—398, специально с. 397—398.
[108]
Ср.: Kustas. Op. cit., p. 7, η. 2.
[109]
Schissei 19Z7, S. 372.
[110]
См.: Richter 1926, S. 164—165; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 77.
[111]
Kustas. Op. cit., p. 11—12.
[112]
К понятию византийского синтеза, преобразовывавшего самое существо входивших в него элементов старой культуры, ср. нашу работу: Аверинцев 1977, с. 109—128, 142—144, 237—249 и др.
[113]
По этой причине Порфирий и неоплатоники афинской школы отвергали Гермогена; но даже приверженцы последнего из числа александрийских неоплатоников, включая Сириана, ощущали необходимость комментирующего исправления и дополнения Гермогена, которое выправило бы его дефиниции по нормам аристотелевской логики. Ср.: Richter. Op. cit., S. 164—165.
114Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 81—82.
115Brinkmann 1910, S. 617—626, Text 618; Zintzen 1967, S. 2—3.
[116]
Kustas. Op. cit., p. 19—20; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76. Если Хунгер сдержанно подвергает сомнению прогимназм, Кустас уверенно говорит об обеих первых частях гермогеновского сборника, как о «подложных попытках, с которыми имя Гермогена оказалось связанным в V в.». В научной литературе обсуждалась также возможность неподлинности трактата «О том, как достичь мощи».
[117]
Ср. прим. 98.
[118]
Сириан знает только три последние части гермогеновского сборника. См.: Kustas. Op. cit., p. 20.
[119]
См.: Walz ed., vol. 5, p. 222—576; Hunger, Op. cit., Bd. 1, S. 79.
[120]
В частности, на так называемого Rhetor Monacensis, писавшего в XIV в. и исключительно высоко оцененного Г. Рабе (Rabe ed. 1926, p. XIX).
[121]
То есть совмещения «словесной хрии» (понятие, более или менее равнозначное понятию «гнома», а если и отличное от него, то по признакам, по-разному выделявшимся у разных теоретиков) и «деятельной хрии», где сентенция была заменена равнозначным ей, т. е. сугубо семпотизированным действием, поступком, многозначительным и «говорящим» жестом.
[122]
По типу «Диоген, увидев мальчика, чинившего безобразие, ударил его дядьку, примолвив: “Вот как ты его воспитываешь!”»( Walzed., vol. 1, p. 272—274).
[123]
По типу афористического стиха Еврипида: «Один совет сильнее многих рук» (Ibid., р. 278—279).
[124]
Ср. нашу статью «Древнегреческая поэтика и мировая литература» (наст, изд., с. 146—157, специально с. 152—153).
[125]
Ср.: Ernesti 1795, p. 297.
[126]
Walzed., vol. 1, p. 235—239; Ibid., p. 44—47.
[127]
Ibid., p. 27—28; 35—42; Ibid., p. 72—76 et 77—80; 86—92 et 93—97; cf.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
[128]
Hunger 1978, Bd. 1, S. 76.
[129]
Наст, изд., с. 158—161; Awerintzew 1981, S. 9—14.
[130]
В наст. изд. с. 296—301.
[131]
Ср.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
[132]
Kustas. Op. cit., p. 42, η. 1 ad p. 41. В подкрепление своей (отнюдь не бесспорной) характеристики положения вещей на латинском Западе Кустас ссылается на слова одного исследователя средневековой теории проповеди: «Самое богатое наследие, завещанное средневековой риторике античной эпохой, — это принцип употребления топоса, общего места, принцип художнического “нахождения” нужного довода, доводимого до нужной аудитории в нужных обстоятельствах» (Caipan 1933, р. 86).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: