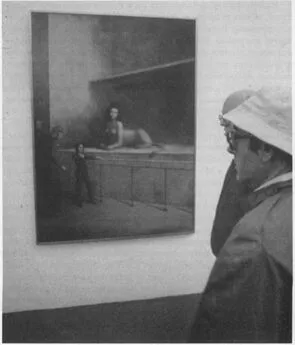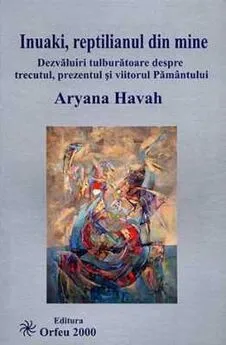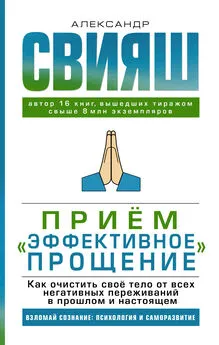Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»
- Название:«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Традиция
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-131-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» краткое содержание
Книга дает представление о крупнейших явлениях искусства XX в., важнейших эстетических проблемах, позволяет приблизиться к пониманию всего художественного процесса. Рассказывается о крупнейших музеях, о значении критики и художественного рынка, характеризуются взаимоотношения искусства и политики, искусства и неомифологии, искусства и техники и т. п., анализируются отдельные течения — абстрактное искусство, поп-арт, сюрреализм и социалистический реализм. Особое внимание уделено крупным мастерам — А. Матиссу, П. Пикассо, В. Кандинскому, К. Малевичу, С. Дали, Э. Уорхолу и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей.1.0 — создание файла
«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда картина была выставлена, она вызвала острые споры. Не принимающие ее новаторства критики обвиняли художника в «фотографизме», хотя понятно, что сравнение это пригодно лишь для не понимающих ни искусства живописи, ни искусства оптических линз, запечатленного на светочувствительной эмульсии. Известно, что народ полюбил «свою» картину, она стала выражением «народного» художественного вкуса и вскоре была удостоена Сталинской премии. Герой картины — мальчик — стал прототипом целой галереи подростков в советской живописи (у Ф. Решетникова, С. Григорьева, И. Шевандроновой и др.).
В дальнейшем, занимаясь копированием полотен старых мастеров, Лактионов все больше и больше совершенствует свою технику, сочетая темперу с масляными красками, а также охотно прибегая и к технике пастели. Теперь у него люди начинают доверять «своему солнечному лучу» («Светлана, сидящая на подоконнике»). Но оптимизма хватило ненадолго. Настали пасмурные деньки. Ряд картин показывает слабые растения, с трудом переживающие зиму у окна. Завершающим размышлением об эпохе стала громадная композиция «Обеспеченная старость» (1958—1960). Это групповой портрет актеров-ветеранов, позирующих в гостиной интерната. Они пытаются еще актерствовать, но для них — все в прошлом, а смерть витает рядом (некоторые модели скончались за время писания картины). С левой стороны за спинами позирующих находится огромный фикус, он как бы плодоносит, и официантка, стоящая рядом с ним, подносит вазу с фруктами, а слева у окна в горшке пытается цвести худосочная герань. Это и есть символы, поясняющие судьбу моделей: жалкое цветение на сцене и мнимость «плодов заслуженной старости». Их же судьба и судьба людей сталинской эпохи: отцвели и сгинули.
В ряде автопортретов Лактионова видна какая-то коварная улыбка, порой усмешка. Так улыбаться имел право только тот, кто видел и «поверхность» жизни, и ее «изнанку». Характерно, что нередко художник позирует в полутьме, иногда в руках его свеча. Он хотел дать свет другим, занимаясь его метафизикой, но не нашел его для себя.
Художник Федор Решетников приобрел известность тем, что был участником легендарных экспедиций на ледоколах «Сибиряков» (1932) и «Челюскин» (1933—1934) и его «репортажные рисунки» охотно печатались в журналах. Они были выполнены скупыми линиями в традициях художников ОСТа. Однако «поэтом детворы» он стал позже, когда восхитил публику картиной «Прибыл на каникулы!» (1948). Критик тех лет писал: «...кажется, что суворовец шагнул в картину прямо с улицы». И это поражало. Зритель вдруг ощутил, что понимает это произведение: вот пришел бравый мальчуган в военной форме, его встречает дед, у стола видна сестренка. На стене за его фигурой висят репродукция картины «Три богатыря» В.М. Васнецова и фотография отца в траурной рамке. Становилось ясно, что молодая поросль сменит отважное старшее поколение. Чтобы представить себе всю эту сцену, художник много и упорно работал, почти что по-ученически, ведь ему надо было отойти от прежней, довольно-таки условной манеры и сымитировать стиль поздних передвижников, таких, как И.П. Богданов, В.Н. Бакшеев, К.В. Лебедев, и некоторых мастеров «русского импрессионизма» — К.А. Коровина и А.Е. Архипова. За эту картину мастер был удостоен Госпремии.
О том, как делать такие картины, сам художник подробно рассказал по другому, не менее важному поводу в статье «Моя работа над картиной "Опять двойка"». В те годы, чтобы получить звание профессора, надо было «защищать» свою работу как диссертацию, и поэтому требовался специально написанный художником текст. К 1952 году он закончил и статью, и картину, в которой название, собственно, говорит обо всем. Художник специально брался за небольшие по формату картины, абсолютно соответствующие его скромному живописному дарованию. Так, с карандашом в руке, проработал он все части композиции, делал штудии с натуры, писал всю сцену, ставя натурщиков в те позы, которые изобразил. То есть Решетников делал все, как и старые мастера. А так ему хотелось всего-навсего показать возвращение нерадивого ученика с катка домой для выяснения причин своего плохого поведения. Художник, имея определенный опыт, решил воссоздать сцену как демонстрацию суммы реакций встречающих его близких, а именно матери, братика, сестренки и собаки. И чтобы зритель увидел преемственность этой картины с предыдущей, «Прибыл на каникулы», ее репродукция была помещена у отрывного календаря на стене комнаты, в которой происходит все действие. Взяв схему известной картины И.Е. Репина «Не ждали», Решетников переделал ее на свой лад: «ждали и очень». Как и за предшествующую работу, мастер вновь получил Госпремию.

А. Лактионов. Письмо с фронта. 1947
Когда же наступили новые времена, художник живо откликнулся на них, создав триптих «Союз-Аполлон» (1975). Одновременно он увлекся борьбой с абстрактным искусством, издав книгу «Тайны абстракционизма» (1963) с собственными рисунками (по ним был сделан вскоре триптих, а также снят кинофильм). При этом он и сам почувствовал себя свободным от всяких обязательств «писать детвору», от которой его уже подташнивало, ибо как «специалисту по ее проблемам» ему приходилось чуть ли не каждодневно ходить по школам и объяснять, почему плохо получать «опять двойки». Свобода привела его как-то само собой к жанру скульптурных портретов-гротесков. Ему удалось в шаржированном виде представить галерею своих коллег-художников, как бы зарегистрировав ту среду, в которой когда-то он жил и творил. Он поступил также, как некогда Оноре Домье, и, наверное, мог бы им — на свой лад — стать.
Занятия детворой стали любимым упражнением для многих художников, вне зависимости от стиля, будь то «Будущие летчики» А. Дейнеки или «Прием в комсомол» С. Григорьева, ибо представлять их в картинах было делом все-таки менее опасным, чем изображать взрослых, которые могли совершать «ошибки». Так что вся жанровая живопись тяготела к «миру детей». Другими героями могли быть только воины, ученые и люди созидательного труда.
Понятно, что существовал и «средний стиль», который не имел никакого развития, обеспечивая лишь такое важное качество советского искусства, как его массовость.
Принятая некогда «история» начала советского искусства покоилась на таких работах, как «В голубом просторе» (1918) А. Рылова, «В отряд к Буденному» (1923) М. Грекова, «Смерть комиссара» (1928) К. Петрова-Водкина, являющихся повторением их ранних произведений «Дикие гуси» (1914), «На фронт» (1914), «Смерть офицера» (1916). Так что у советского искусства существовала своеобразная «протоистория».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: