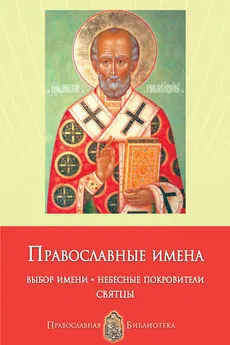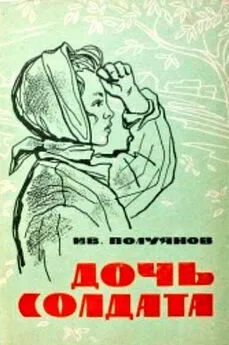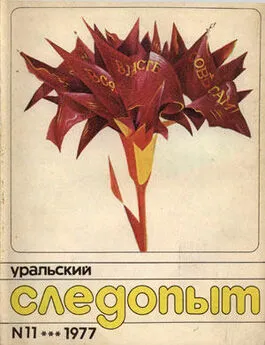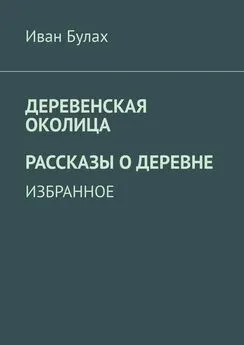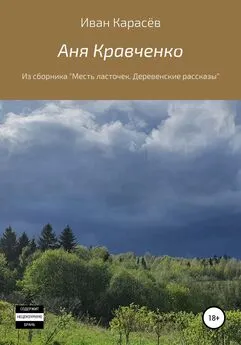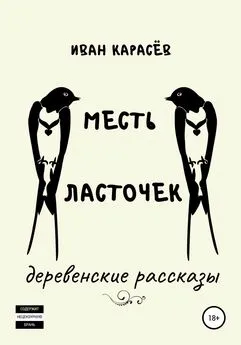Иван Полуянов - Деревенские святцы
- Название:Деревенские святцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Технологическая школа бизнеса
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Полуянов - Деревенские святцы краткое содержание
Книга известного вологодского писателя И.Д.Полуянова заново открывает для читателей почти забытую традицию народного творчества. Автор в буквальном смысле слова реконструирует устные численники-месяцесловы, своего рода деревенские святцы, тесно связанные со святцами духовными. В противоположность нынешним сухим и строгим календарям, связывающим лишь день недели и число, раньше каждый день был наособицу, и только ему сопутствовали определенные приметы, меткие речения, прибаутки, песни, обряды. Деревенские святцы органично и функционально вписывались в быт русской деревни. В них ярко и выпукло отразилась духовная жизнь крестьян.
О днях празднования Входа Господня в Иерусалим, праздника праздников — Пасхи, Вознесения, Троицы, а также сырной седмицы — масленицы, о постах, днях памяти святых, о молитвенном почитании чудотворных икон, других торжествах Православия подробно говорится в «Православном церковном календаре», выходящем в свет ежегодно. Некоторые даты приведены здесь — по месяцам, предваряя рассказ о земледельческом годовом круге устных народных месяцесловов.
Деревенские святцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мнится, они сродни — лебеди, живым облаком белеющие на воде, гривастые порыжелые камыши побережья, пустынное без лодок, без рыбаков озеро и битый кирпич разоренного острова…
Перевал осени, октябрь, надо признаться, выглядит каким-то безликим в череде месяцев. Видимость эта обманчива. Готовит назимник землю к зиме, и никто, как он, не противостоит ей. Незримый для непосвященных задел объявится лишь весной. Не беда, что полегла трава: ею укрыты всходы, ростки будущей благодати.
Впрочем, грязник не прочь оттянуть ненастье.
Разведрится, подолгу выстаивают погожие дни. Золотая осень стократ ярче, неподражаемо цветистей, когда небо сияет голубизной, светлы, чисты окрест все воды, горят не сгорая костры багряных рябин; когда тропы, просеки в лесу — ручьи и потоки пестрой, шуршащей листвы, которой, право, не убыло с берез, с осин!
Выдохлась непогодь. Пока она собирается с силами, можно затащить в норку лишний корешок про запас, понежиться в покое и тиши.
Медведице нашелся пень с расщепами — свежий след недавнего бурелома. Раздобревшая на малине и овсе, колыхает мясами косматая: когтями оттянет да отпустит расщепину.
«Др-р-р!» — дребезжат дранки.
Уши бы заткнуть, медвежатам-двойняшкам любо: раззявив рты, слушают. «Наша мама лучше всех» — написано на мордочках.
«Др-р-р…»
Ну, хватит, хватит?
«Др-р-р, — плывет по бурелому. — Др-р-р!»
Засуетилась, перепархивая по лапам ели, пеночка тенькает, будто с укоризной:
— Те-тень-ка… те-тень-ка…
Куда там, ухом не ведет толстуха: ей только б позабавить малышей — на все готова.
«Др-р-р!»
Чтоб он треснул, проклятый пень! Выволокся из лужи кабан, лязгнул страшными клыками и наддал рысью подальше от греха.
Дупло чернело глазком отверстия и вдруг сморгнуло. Выскользнула на сук белка-летяга. Пораскачивалась серенькая, сжавшись в комок, и прянула с высоты через прогалину — крошечный ковер-самолет…
За лесом в полях желты сурепки, на межах донник. Золотя луга, по второму заходу цветут купальницы, лютики, одуванчики. Жалкие последыши былого великолепия, от них пронзительней грусть, чем от слякоти, от птичьих станиц в небе!
Бывало, деревня зорко следила, раздастся, не раздастся с высоты гортанный говор:
— Ку-ур… кур-рлы…
1 октября — Евмен и Орина.
В устных календарях — журавлиный лет.
Евмению раз в году, Иринам трижды именины: разрой берега и рассадница весной да теперь, осенью. «На Орину отсталой журавль за теплое море тянет».
К дате прилагалось:
«Журавли тронутся на Евмена — на Покров будет мороз, а нет — зима раньше Артемова дня (2 ноября) не встанет».
Детвора с изгородей, от гумен махала журавушкам:
— Колесом дорога! Колесом дорога!
Надеялись, что стаи поворотят вспять, с ними назад вернется солнышко разгарчиво, ребячье приволье.
Отмечены-спразднованы земляничник и малинники, почествовали бруснику, клюкву и рябину. Ждал и дождался своего шиповник: осыпаются кусты, издали видны оранжевые его плоды. Орина и журавлей в жаркие страны сряжала, и значилась «шипичницей». Шиповник-шипицу для чая заготавливали, в напиток бодрости и здоровья.
Скудно с теплом, мало ли что октябрь — внук августа. Озаботься, пасечник, сохранностью пчел. «Летела птаха мимо Божьего страха: ах, мое дело на огне сгорело!» Пожелтели травы, в солому сохнут. Горят-догорают осины и березы без дыма, без пламени, велят ульи убирать под крышу.
2 октября — Зосима — Савватий, вечерки.
В устных календарях — пчелиная девятка и Трофимовы вечерки. Соловецкая обитель была искони почитаема. Вопреки осенним штормам, на архипелаг не иссякал поток паломников поклониться святыне, по обетам вложить свой труд в процветание северной преименитой Лавры. Работали взрослые, работали трудниками-послушниками подростки. Здесь ребята овладевали грамотой, обучались ремеслам, профессиям.
Со 2 по 9 октября в России шла «девятка» — дни поминовения преподобных Зосимы и Савватия, основателей Соловецкого монастыря. Известно, «двоица свята» считалась покровительницей пчеловодства, поэтому пасечники в «девятку» стремились довершить подготовку ульев к зимовке.
Для деревенской молодежи денек такой, что не пропусти: покровитель сердечных тайн, влюбленным воздыхателям верная опора!
От Спасов до Покрова заповеди старины ограничивали игрища, вечерины. Со временем ограничение ослабло. Допускались хороводные игры, посиделки в избах. Впрочем, все зависело от местных обычаев, в семьях — от наплыва работ в поле и по дому.
Усадят репу обрезать, щипать хмель — и хоть плачь, до того тошнехонько.
Раствори, мама, окошко,
Головушка болит.
Не обманывай-ка, дитятко,
Тальяночка манит?
«На Трофима не проходит счастье мимо». Парню в славу, коли полволости обойдет-обежит: все меня знают, всюду на посиделках прием!
Трофим, а Трофим, куда ж ты, молодец бравый? Обернись, бывать, твоя доля там на лавочке — потупленные очи, сарафан с пуговками, лента алая в косе?
3 октября — Астафьевы ветры.
Дань уважения мельникам, хозяевам ветрянок.
Птица-юрица
На ветер глядит,
Крыльями машет,
Сама ни с места.
О, птиц-юриц стояло вокруг деревень, несказанно украшали они холмы, вольницу раздольную полей и лугов!
Ветрам отдавалось исключительное внимание, наипаче в Поморье, в пору господства парусных судов и позднее. Для зверобоя, для рыбака ветер — успех в промысле, сама жизнь. Предугадаешь, откуда задует, что принесет, — быть тебе с уловом, с добычей; обманешься — утащит на льдине в океан, сети, мережки порушит в лихую падёру.
По сторонам света, направлению, ветры именовались везде наособицу. К примеру, в Неноксе северный нес название сивера, северяка, на Мезени он был продольный, столбище. Знавала Русь заморозника, галицких ершей и хилка, стрижа и паужника — десятки, сотни прозвищ для всех 32 румбов компаса!
Деревенские святцы не преминули по случаю Астафьева дня преподать житейские уроки. «Выше ветра голову не носи» — поучали. «Спроси у ветра совета, не будет ли ответа» — наставляли опираться на себя, наживать собст венный опыт. То же самое и мельники говаривали: «На ветер надеяться — без помолу быть».
В прошлом добирались налоги, взимались недоимки весной и летом по возвращении селян с отхожих зимних заработков, по завершении пушного промысла, подледного лова, и осенью в гуменную страду.
Беда, когда долг за долг заходит.
Север неоднократно переживал периоды подъема и упадка. В средневековье житница страны… Через Холмогоры, Важскую землю, Тарногу — свободный выход на торговлю с заграницей… Начало ХVII века — польско-литовская и шведская интервенция, пожары, грабежи… Посправились, грянула Петровская эпоха: непосильные поборы, угон плотников, судостроителей на верфи Питера, запрет на прямые торговые сношения о Западом. Север наполовину обезлюдел…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: