Абрам Рейтблат - Писать поперек. Статьи по биографике, социологии и истории литературы
- Название:Писать поперек. Статьи по биографике, социологии и истории литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0318-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Рейтблат - Писать поперек. Статьи по биографике, социологии и истории литературы краткое содержание
Сборник включает статьи разных лет, посвященные таким малоизученным вопросам, как соотношение биографии и «жизни» биографируемого, мотивы биографа, смысловые структуры биографического нарратива, социальные функции современного литературоведческого комментария и дарственного инскрипта на книгах, социальное воображение в советской научной фантастике 1920-х годов, биографии Ю.И. Айхенвальда, С.А. Нилуса и создателя русского детектива А.А. Шкляревского, политические взгляды Ф.В. Булгарина и А.С. Пушкина, увлечение Пушкина гимнастикой, история жанра пьес-сказок в русском дореволюционном театре и т.д.
Писать поперек. Статьи по биографике, социологии и истории литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Демонстрируя образцовое общественное устройство, не существующее пока в реальности, НФ давала возможность «очистить» современные тенденции, просмотреть их более отчетливо. Собственно говоря, писателей (и читателей) интересовал не столько прогноз, сколько анализ современной общественной ситуации.
Некоторые современники отчетливо осознавали это обстоятельство. Так, А. Агафонов писал: «Во всяком утопическом и фантастическом романе имеется комбинация следующих трех элементов: 1) реальные отношения современности; 2) пылкая фантазия автора, отталкивающаяся от этих отношений как от отрицательного полюса и конструктирующая им в противовес другие, фантастические, противоположные им и положительные, с точки зрения автора, отношения, и 3) при этом находят свое выражение, невольное или преднамеренное, стремления и идеалы того класса, к которому принадлежит или на точке зрения которого он стоит» 249. Поэтому справедливым представляется мнение В. Ревича о том, что научно-фантастические книги того времени «как документы эпохи <���…> представляют острый интерес. Ведь в фантастике непосредственно отражаются идеалы, мечты, стремления современников» 250.
Подобное понимание НФ позволяет путем анализа соответствующих произведений реконструировать структуру ценностей авторов и поклонников этого жанра. НФ понимается в статье расширительно, в нее включаются не только базирующиеся на естественнонаучных гипотезах произведения, но и социально-прогнозные повести и романы, т.е. все те книги, где говорится о том, что могло бы быть (исходя из представлений времени своего появления). Если вынести за скобки книги неординарные, принадлежащие крупным авторам (А. Чаянов, М. Булгаков, Е. Замятин, А. Платонов и т.п.), и рассматривать основной массив НФ 20-х гг., то бросается в глаза высокая степень его однородности. Подавляющее большинство книг чрезвычайно близки по своему мировоззрению, по рисуемому образу мира, который, можно полагать, объединял и авторов, и читателей НФ. Базовыми чертами этого мировоззрения являются рассмотрение любых социальных процессов через «призму» борьбы классов и «зачарованность» техникой. Для него характерны вера в прогресс человечества и возможность построить идеальное общество; убежденность, что таким обществом может быть только коммунизм; отсутствие интереса к социальному устройству будущего общества; уверенность, что путь к строительству коммунизма заключается в совершенствовании техники. Авторы и читатели НФ верили в возможность и скорую осуществимость в стране и во всем мире совершенного общественного порядка, обеспечивающего всем благосостояние и счастливую жизнь. Современность осознавалась как начало новой эры, исходная точка отсчета, когда все желаемое осуществимо. Это ощущение хорошо передано в стихотворении Н.С. Тихонова «Перекресток утопий» (1918):
Мир строится по новому масштабу.
В крови, в пыли, под пушки и набат
Возводим мы, отталкивая слабых,
Утопий град – заветных мыслей град.
......................................
И впереди мы видим град утопий,
Позор и смерть мы видим позади,
В изверившейся, немощной Европе
Мы – первые строители-вожди.
..................................
Утопия – светило мирозданья,
Поэт-мудрец, безумствуй и пророчь, —
Иль новый день в невиданном сиянье,
Иль новая невиданная ночь! 251
Эта установка находила выражение в различных сферах культуры, и в частности в литературе. Утопична в этом смысле была поэзия пролеткультовцев, «производственная проза» 20-х гг., утопична, как будет показано ниже, и НФ. Однако чистых утопий, содержащих «развернутое описание общественной, прежде всего государственно-политической, и частной жизни воображаемой страны, отвечающей тому или иному идеалу социальной гармонии» 252, советская литература 20-х гг. дала немного.
Можно выделить следующие аспекты в НФ 20-х гг.: 1) изображение идеального мира (утопия); 2) изображение «ужасов» капитализма (антиутопия); 3) показ борьбы капитализма и социализма (элементы фантастики). В большинстве книг отражались все названные аспекты, однако упор делался то на первом, то на втором, то на третьем.
Занятость практической реализацией моделей будущего не способствовала возникновению литературных утопий. Поэтому в первые годы советской власти утопических произведений почти не было, публиковались лишь книги, написанные до Октябрьской революции (романы В. Итина «Страна Гонгури», 1922; Н. Комарова «Холодный город», 1917). Только в дальнейшем, когда выяснилось, что строительство нового общества – не такое быстрое и легкое дело, как это казалось вначале, стали появляться научно-фантастические книги с утопическими мотивами. Причиной изображения идеального общества является неудовлетворенность современностью. Дистанцировавшись от нее, авторы обычно переходят к литературной утопии. Более или менее чистыми образцами этого жанра в фантастике 20-х – начала 30-х гг. можно считать лишь несколько книг. В отличие от классических утопий, содержавших явную или скрытую критику современности, эти романы, по сути дела, во многом апологетизируют ее, видя основу идеального общества в советском строе, нуждающемся лишь в некоторых усовершенствованиях и в развитии материально-технической базы. А.Ф. Бритиков справедливо отмечает: «Чем больше претворялось в жизнь учение научного социализма, тем очевиднее делалось, что ценность социальной фантастики перемещается с критики и отрицания зла – к утверждению и обоснованию идеала. Эпоха научного социализма и пролетарской революции обратила утопический роман к действительности как первоисточнику социальной фантазии. Делалось очевидным, что облик будущего должен быть выведен не только из умозрительной теории, но и из практики социалистического строительства». Для этого «фантасты, однако, не располагали в то время ни достаточным жизненным материалом, ни глубоким знанием теории коммунизма, ни соответствующей художественной традицией» 253.
Подобная ситуация обусловила редкость появления утопических изображений идеального общества в фантастике 20-х гг., их близость друг другу, схематичность и фрагментарность. Так, книга Я. Окунева «Грядущий мир. Утопический роман» (Л., 1923) во многом является иллюстрацией к популярной марксистской литературе о будущем социалистического общества. Действие этого романа разворачивается через 200 лет. На земле возник единый всемирный город. Нет «ни государств, ни границ, ни наций. Мы одна нация – человечество, и у нас один закон – свобода» (с. 49), «каждый <���…> живет так, как хочет, но каждый хочет того, чего хотят все» (с. 50). Аппарат принуждения отсутствует, есть только органы учета и распределения. Все обобществлено. Нет разделения труда: «Мы меняем род деятельности по свободному выбору, по влечению» (с. 43). Физический труд оставлен машинам, люди работают по 2—3 часа в день. Семья исчезла, партнеры свободно сходятся и расходятся, а от ревности лечат гипнозом в «лечебнице эмоций».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






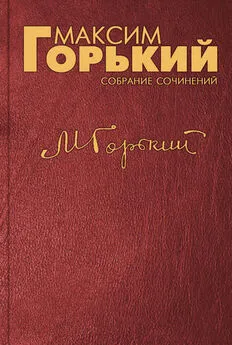
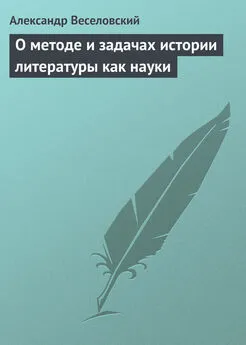
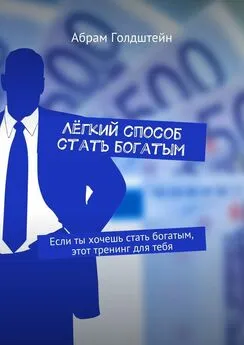
![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)
