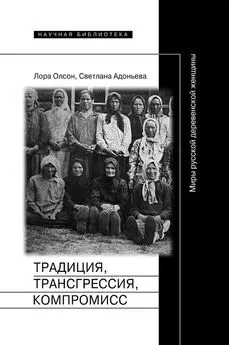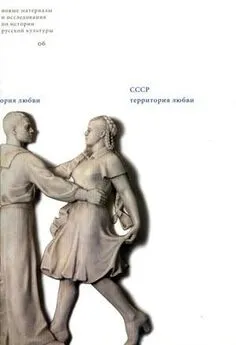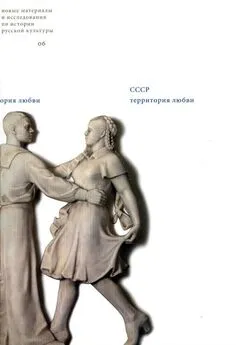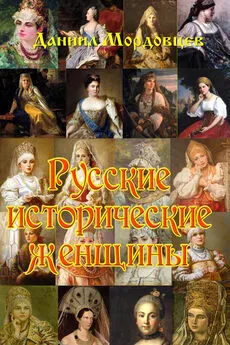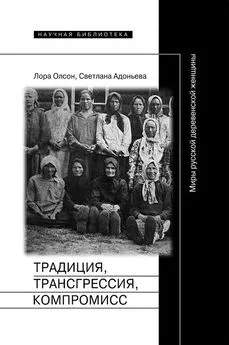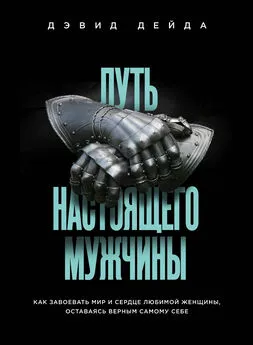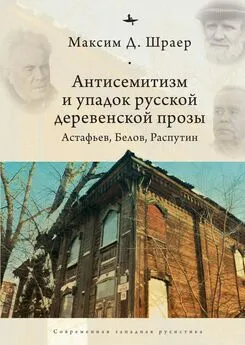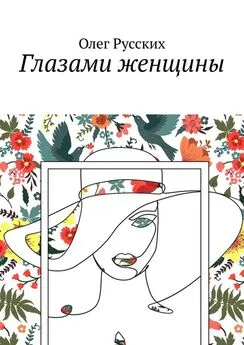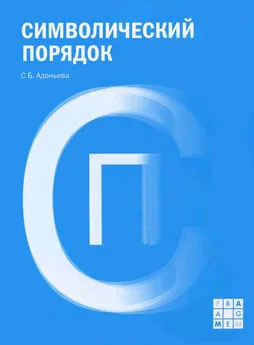Светлана Адоньева - Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины
- Название:Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0427-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Адоньева - Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины краткое содержание
Женщин русской деревни считали жертвами патриархального уклада и вместе с тем прославляли как образец силы, их также признавали бесценным источником, питавшим великую русскую культуру. Но как они смотрят сами на себя? Как их рассказы и песни говорят об их ценностях, желаниях и мотивах? Собеседницами авторов этого исследования в фольклорных экспедициях, проходивших в российских деревнях, были женщины, принадлежащие к разным советским поколениям: 1899—1916 (до Октябрьской революции), 1917—1929 (до начала тотальной коллективизации деревни) и 1930—1950 (те, чья молодость пришлась на послевоенное время, а период социальной активности на последнее советское двадцатилетие). Различия в судьбах женщин, принадлежащих к этим трем генерациям, значительны, как различны их личный опыт и вынесенные из него жизненные кредо. Актуализация этих различий и составила основную задачу данной монографии. В ней тематизированы наиболее значимые сферы женского знания и дискурса: темы ухаживания и свадьбы, мелодраматизм песенного репертуара и трансгрессивность частушки, магические и религиозные практики, межпоколенченские отношения родства и свойства, отношения с мертвыми. Эти темы рассматриваются на фоне динамики социальных иерархий, определяющей жизнь поколений российского деревни ХХ века.
Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть в этом высказывании некоторый элемент романтизации, однако она соответствует моему (ЛО) полевому опыту исследования деревенских любительских хоров 1990-х и 2000-х годов. Исполнители часто говорили об эстетической ценности, которую они хотели бы создавать своим пением. В ансамбле села Красное исполнители говорили о хорошо спетой песне, что она «наладилась», что все голоса «ровно шли», а в случае плохого исполнения говорили, что певцы были «вразноброд». Когда я спросила, о чем они думают, пока поют, одна женщина сказала: «я подбираю», что спеть (имеется в виду высота звука), «ладю» с другими, а они «ладят» с ней. Еще они сказали, что думают о содержании песни (Елена Владимировна А., 1928 г.р., с. Красное, Рязанская область, 19 октября 1998 г.). Это представление об индивидуальном эстетическом выборе очень важно: группа и традиция задают общее групповое звучание, в которое должны включиться отдельные исполнители, в то время как сами исполнители проявляют свободу, создавая собственную эстетику в рамках этих ограничений. В хоре личный принцип и принцип группы находятся в отношениях непрерывного согласования друг с другом.
Среди хоров, которые изучали Линева и Руднева, было много смешанных, а когда я (ЛО) стала их изучать в середине 1990-х, они по большей части были исключительно женскими. Только среди казаков и староверов (например, семейских Забайкалья) мужское пение сохранилось наравне с женским [73]. Причина феминизации фольклорных хоров кроется в феминизации русской деревни в целом. Даже без учета войн, которые уничтожали мужское население России с начала до середины ХХ века, продолжительность жизни мужчин в России сама по себе значительно ниже, чем женщин. Кроме того, начало коллективизации в 1930-х годах вызвало миграцию из деревень, и в подавляющем большинстве уезжали мужчины [Денисова 2003: 173 – 174; Гадицкая, Скорик 2009: 299]. Недостаток мужчин вынуждал женщин исполнять песни только женскими коллективами. Феминизация деревенской музыкальной культуры отнюдь не способствовала признанию ее ценности. Советская пропаганда, включая плакаты двадцатых и фильмы тридцатых‒сороковых годов, внесла свой вклад в образ деревенской женщины как «отсталого элемента» [74].
Женское групповое пение оказалось традиционным вдвойне, его существование обеспечивалось традицией – женское пение было обязательным элементом добрачных отношений молодежи (бесед и гуляний), свадеб и календарных ритуалов; а в двадцатом веке его традиционность была подкреплена неблагоприятными для женщин историческими и идеологическими обстоятельствами.
При внимательном изучении неформальной певческой группы нам становилось понятно, что для ее участниц она значит гораздо больше, чем просто совместное музыкальное занятие. Это – социальная группа очень тонкой настройки, со своими собственными сложными и изменчивыми внутренними иерархиями, своими требованиями к членству, своей фольклорной культурой. Женщины в таких ансамблях пробыли вместе много лет, их отношения друг с другом выглядят так, как будто они – сестры или родственницы. Они устраивали перебранки из-за того, кому принимать решения: из-за права петь особую партию, из-за права выбирать текст. У каждого ансамбля был собственный приватный и официальный репертуары: у участниц хора было много общих песен, и они пели их вместе на днях рождения, свадьбах, на проводах в армию, во время календарных праздников, похорон и поминок. Визит этнографа тоже был поводом попраздновать, и, как в дни рождений, женщины собирались на традиционное застолье в доме одной из участниц хора. Если в застолье участвовали мужчины или взрослые дети, женщины часто исполняли тот репертуар, который те знали; но также пели они и песни из своего хорового репертуара, на какой-то момент исключая из пения мужчин и младших женщин [75].
Государство с тридцатых годов снабжало деревенские хоры средствами и назначало им специально подготовленных руководителей, но в восьмидесятых интерес к старинным традициям принял новый оборот. Работники культуры стали поощрять неофициальные хоры к переходу на официальный статус народного хора и исполнению на сцене фольклорно-этнографического наследия матерей и бабушек певиц. Получив площадку для публичного выступления, хоры обрели новый стимул, участницы хоров осознавали, что это хобби выделяет их из рядовых членов сообщества. Во время наших посещений многие из пожилых участниц таких сравнительно новых групп – женщины второго и третьего поколений – с гордостью рассказывали о своих выступлениях и наградах, полученных от местных властей. Как и в советское время, хор обеспечивал его участницам социальный престиж, за счет этой деятельности они обретали публичный голос и признание властей на региональном уровне, а также социальную значимость на уровне местном.
Участницы хоров осознавали тот факт, что мужчины и «старшие» могли относиться к этой особой публичной женской деятельности с неодобрением, но в их историях подчеркивалось намерение репетировать и выступать несмотря на все преграды. В этих рассказах мы видим сильнейшее проявление женской агентивности. Женщины говорили, что им приходилось добиваться уступок от мужей или свекровей, чтобы посещать репетиции, праздники и концерты. Александра Павловна А., 1941 года рождения, описывает, как в 1960-х годах (ей в то время было около двадцати лет) ее свекровь сетовала, когда ее звали на вечернюю репетицию: «Тебя весь день нет дома, и вечером тебя опять нет!» Поэтому Александра звала свою мать помочь свекрови с детьми, пока она репетировала или выступала (с. Красное, Рязанская область, 5 мая 2005 г.). Зоя Венедиктовна К., 1932 года рождения, – волевая, остроумная и активная женщина, рассказывая нам о своем участии в деревенском хоре, спела частушку:
Я старушка боевая,
Заняла позицию,
Дед скотину обрежат,
А я на репетицию [76]. (д. Пигилинка, Сямженский район, Вологодская область, 19 октября 2004 г.)
В этой частушке находит свое выражение то чувство, о котором мы часто слышали от женщин, певших в хоре: они оценивали свою деятельность как трансгрессивную и выражали твердое намерение ее продолжать. Заявить, что муж будет «обряжать скотину», то есть выполнять женскую работу, в то время как «боевая женщина» по-мужски участвует в общественной жизни, означало «феминизацию» мужчины и повышение собственного социального статуса. Рассказчица конструирует свою агентивность посредством эпитета боевая , традиционно ассоциировавшегося с маскулинностью.
Констатируя, что поход на репетицию связан с оппозиционной позицией (быть боевой), частушка Зои вступает в давнюю полемику о качествах выступающей на сцене женщины. Она подчеркивает трансгрессивность публичного пения со сцены, и для некоторых деревенских женщин оно таковым остается. В XVIII и XIX веках появление русской женщины на сцене считалось несовместимым с требованиями скромности и сдержанности; оказаться там могли только женщины низкого происхождения, потому что считалось, что, выйдя на сцену, женщина становилась сексуально доступной [Rosslyn 2003: 260]. В ХХ веке, когда все больше женщин делало сценическую карьеру, городская публика перестала связывать публичное выступление с доступностью, однако для всех поколений деревенских женщин, которых мы опрашивали, кодекс женского поведения предполагал демонстрацию скромности [77]. Вернее, этот кодекс сохранялся в качестве опознаваемой точки отсчета в дискурсе наших собеседниц: женщины второго и третьего поколений не раз за свою жизнь нарушали поведенческие установки, но всегда ссылались на кодекс поведения матерей и бабушек.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: