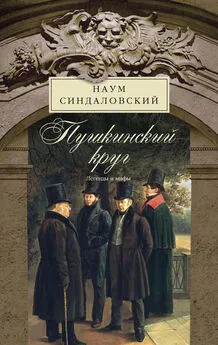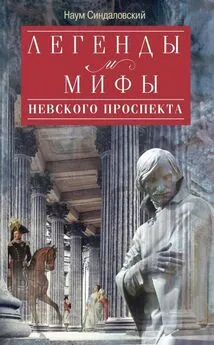Наум Синдаловский - История Петербурга в преданиях и легендах
- Название:История Петербурга в преданиях и легендах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-06444-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Синдаловский - История Петербурга в преданиях и легендах краткое содержание
Перед вами история Санкт-Петербурга в том виде, как её отразил городской фольклор. История в каком-то смысле «параллельная» официальной. Конечно же в ней по-другому расставлены акценты. Иногда на первый план выдвинуты события не столь уж важные для судьбы города, но ярко запечатлевшиеся в сознании и памяти его жителей…
Изложенные в книге легенды, предания и исторические анекдоты – неотъемлемая часть истории города на Неве. Истории собраны не только действительные, но и вымышленные. Более того, иногда из-за прихотливости повествования трудно даже понять, где проходит граница между исторической реальностью, легендой и авторской версией событий.
Количество легенд и преданий, сохранённых в памяти петербуржцев, уже сегодня поражает воображение. Кажется, нет такого факта в истории города, который не нашёл бы отражения в фольклоре. А если учесть, что плотность событий, приходящихся на каждую календарную дату, в Петербурге продолжает оставаться невероятно высокой, то можно с уверенностью сказать, что параллельная история, которую пишет петербургский городской фольклор, будет продолжаться столь долго, сколь долго стоять на земле граду Петрову. Нам остаётся только внимательно вслушиваться в его голос, пристально всматриваться в его тексты и сосредоточенно вчитываться в его оценки и комментарии.
История Петербурга в преданиях и легендах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце концов, поиски истоков привели к определенному результату. По утверждению христианских мистиков, если из слова «коммунизм» убрать одну букву, то сумма цифр этого слова составит «звериное число „666“». А если это число, продолжали они, сложить «из шестнадцати спичек, то из них же можно составить фамилию „Ленин“». Это удивительным образом, утверждали они, было предсказано ещё Иоанном Богословом в 15-м стихе 13-й главы его Откровения: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».
Впрочем, первоначально жестокость новых хозяев России распространялась только на тех, кого стали презрительно называть «буржуями». Пролетариату же большевики обещали не только «светлое будущее», но и безусловные преимущества перед бывшими эксплуататорами. Эти ожидания трансформировались в самые невероятные слухи. Ирина Одоевцева вспоминает, как соседка остановила её в коридоре «уплотнённой» квартиры и с самым серьёным видом спросила: «Правда ли Ленин издал декрет, что нам, пролетаркам, носить всего шесть месяцев, а буржуйкам двенадцать?»
Оживились уголовники, бандиты и прочие деклассированные элементы. По революционному городу ходили тревожные слухи, будто на улицах «орудуют ночные разбойники, которые прыгают выше домов при помощи особых пружин, прикреплённых у них к сапогам». Говорили также, что одеты они в саваны. Возглавлял банду некий Иван Больгаузен по кличке Живой труп, а его подруга Мария Полевая будто бы собственноручно шила саваны.
Мы уже упоминали, что в Петрограде было много китайцев, которые, как говорили в народе, приходили по ночам в ЧК за душами замученных и расстрелянных людей. Эти китайцы были якобы приглашены во время Первой мировой войны русским правительством для строительства оборонительных сооружений, но, оставшись после революции не у дел, пошли работать палачами. «Ходя, ходя, почему у тебя походя руки в крови?» Говорили, что однажды всех этих китайцев перебили на рынках и «передушили, как лягушек, на улицах».
Неожиданно в голодном Петрограде появились дикие утки. Плавая по Неве, они всё время прижимались к набережной у Зимнего дворца. В городе утверждали, что это защитницы Зимнего, расстрелянные после штурма царского дворца. И в Летнем саду появились какие-то дикие птицы. Молва считала их душами умерших.

Фёдор Иванович Шаляпин
Красный террор приобретал всё больший размах. Ни на один день не прекращались обыски. Часто приходили к Шаляпину. Искали золото, бриллианты. Конфисковали серебряные ложки и вилки. Забрали «двести бутылок французского вина». Сохранилось предание, что однажды Шаляпин пришел к председателю Петросовета Зиновьеву и сказал ему: «Я не против обысков, но нельзя ли обыскивать меня в удобное для меня время, с восьми до девятнадцати, например?».
О Шаляпине рассказывали легенды. Говорили, что, когда он пел, от его голоса гасли свечи. Приезжая к Репину на его дачу в Куоккале, Шаляпин всегда исполнял какое-нибудь произведение. Сохранилась легенда о том, что его голос был хорошо слышен на железнодорожной станции, за два с лишним километра от дачи. Однажды Шаляпин должен был выступать с концертом в ресторане. За ним обещали прислать извозчика. Но забыли. Тогда он нанял его сам. Но куда ехать не знал. Заехал в один ресторан: «Я не у вас пою?» – «Нет. Но если вы не возражаете…» Он спел и снова поехал искать свой зал. В другом ресторане произошло то же самое. Так он спел за вечер в четырёх ресторанах, так и не доехав до того, где его ждали.
Шаляпина любили, несмотря на то что он мог пошутить прямо на сцене во время спектакля. Шутки эти были не всегда безобидными для их объекта. Хорошенькие певицы жаловались на то, что он мог, как говорится, распустить руки, схватить за грудь или похлопать по заду. Однако всегда приходил за кулисы извиняться. Впрочем, к творчеству относился серьёзно. Не только к своему, но и к чужому. Рассказывают, что однажды он предложил Кустодиеву сделать декорации к опере «Вражья сила», когда тот уже серьёзно болел и был недвижим. По легенде, Шаляпин достал машину и сам на руках вынес Кустодиева из дому и внес в театр.
Октябрь 1917 года Шаляпин воспринял с воодушевлением, искренне полагая, что он принесет художникам полную свободу творчества. Однако романтический образ революции всё меньше и меньше соответствовал окружающей реальности, с которой приходилось сталкиваться ежедневно.
Как-то раз Фёдор Иванович встретился с художником Коровиным. «Мне сегодня выступать перед конными матросами. Скажи мне, ради Бога, что такое конные матросы?» – «Не знаю, что такое конные матросы, но знаю, что уезжать надо», – будто бы ответил Коровин. В 1922 году Шаляпин уехал за границу, и больше на родину не вернулся. Умер во Франции. В Петербурге, в музее-квартире Шаляпина на улице Графтио, висит портрет певца кисти художника Александра Яковлева. В своё время портрет находился в Москве. Если верить семейной легенде, рассказанной дочерью Шаляпина, в день смерти её отца картина треснула.
Собрался эмигрировать и поэт и прозаик Фёдор Сологуб. Оформил документы, получил разрешение, собрал вещи – и, как гласит предание, именно в это время его жена, поэтесса и переводчица А.Н. Чеботаревская, бросилась с Тучкова моста в Неву. Почему именно тогда, когда была уже оформлена виза на выезд, – никто не понимал. Одни говорили, будто вмешалась ЧК. Другие утверждали, что родная земля не отпустила. Фёдор Сологуб остался один, в смерть Чеботаревской не верил и, как утверждает легенда, до конца дней ждал жену. Стол накрывал на двоих. Был уверен, что она вернётся домой. Несколько лет прислушивался к звонку в передней. По легёнде, жена его погибла в пасмурные декабрьские дни, и с тех пор Сологуб повторял: «Я умру от декабрита». А по весне, говорили, её тело всплыло чуть ли не под окнами их дома на Васильевском острове. Эти легенды не соотносятся с реальными фактами. Анастасия Чеботаревская погибла 23 сентября. Тело ее, действительно, вспыло по весне около Тучкова моста, но квартира Сологуба находилась в то время на 10-й линии Васильевского острова. Впоследствии он переехал на набережную реки Ждановки, но уже после описываемых событий.
Сологуб так и не эмигрировал. В конце жизни впал в мистицизм, делал невероятные математические вычисления, чтобы доказать существование загробного мира, в котором он обязательно встретится со своей Анастасией. Умер Сологуб в полном одиночестве, в 1927 году.
Как вспоминает поэтесса Ирина Одоевцева в своих мемуарах «На берегах Невы», за год до гибели одного из ведущих представителей русской поэзии начала XX века Николая Гумилёва произошел случай, на который она, зная о мистических настроениях Гумилёва, но не придавая им особого значения, сразу не обратила внимания. В ночь с 14 на 15 октября 1920 года, в день рождения М.Ю. Лермонтова, Гумилёв заказал панихиду по своему любимому поэту Выходя из церкви после окончания заказанной службы, задумчиво спросил, не слышала ли она, как один раз священник ошибся и вместо «Михаил» сказал «Николай». – «Нет, не заметила», – ответила она. А он покачал головой, недоверчиво улыбнулся и закурил новую папиросу. «Ну, значит, я ослышался. Значит, мне почудилось. Но мне что-то не по себе. По ком совершалась панихида? По Михаилу или Николаю?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: