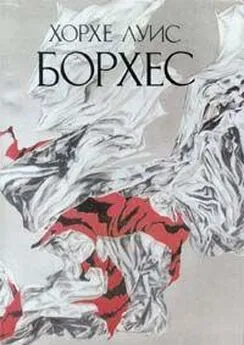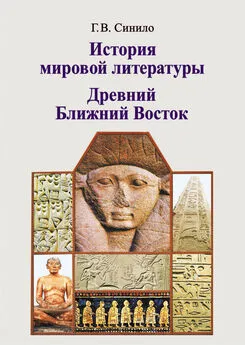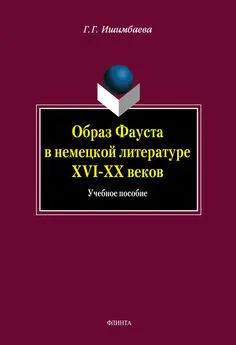Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
- Название:История немецкой литературы XVIII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентВышэйшая школаdd258350-1b67-11e6-bded-0cc47a545a1e
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-06-2304-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века краткое содержание
Учебное пособие посвящено истории немецкой литературы XVIII века в контексте европейской культуры и литературы. Преимущественное внимание уделяется немецкому Просвещению, его философским, эстетическим, литературным поискам, его наиболее репрезентативным фигурам. Материал изложен в ракурсе жанрово-стилевой динамики немецкой литературы не только в соответствии с хронологическим принципом, но и с логикой развития основных родов литературы. По-новому, с учетом последних научных данных, представлены основные художественные направления XVIII века (просветительский классицизм, рококо, сентиментализм) и их преломление в немецкой литературе этой эпохи.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Культурология» и «Романо-германская филология».
История немецкой литературы XVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На страшный праздник этой ночи сызнова
Пришла, как прежде, я, Эрихто мрачная,
Не столь, однако, мерзкая, как подлые
Поэты лгут…
Жалобы Эрихто на оклеветавших ее поэтов, производящие комический эффект, призваны напомнить, что все, что далее развернется перед читателем, – чистейший поэтический вымысел, хотя и апеллирующий к историческим событиям и реалиям античной культуры. Гёте хочет также сказать, что военная слава Рима – ничто в сравнении со славой Эллады, ее мифов и преданий:
Бивачные костры, пары кровавые
И вкруг огней причудливые зарева.
Фалангой эллинской преданья строятся.
Мелькают на свету, в дыму теряются
Дней баснословных сказочные образы.
Неполный, ясный месяц подымается
И ослабляет синий отблеск пламени,
Сгоняя с поля прочь палаток призраки.
Гёте умышленно дает двум сценам в двух частях произведения сходные названия, отличающиеся всего лишь одним словом, – «Вальпургиева ночь» и «Классическая Вальпургиева ночь», чтобы читатель сравнил их, увидел сходство и отличие. Сходство – в безудержной фантазии, в фантасмагоричности и гротескности, в насыщенности обеих сцен сложной мифологической символикой. Однако первая представляет средневековый мир, мрачную готическую фантастику, к которой так тяготели романтики (эту ночь сам Гёте именовал также «романтической»). Вторая же в сжатом виде представляет мир Древней Греции, ее мифологию и культуру, мир гармонии и красоты, точнее – рождение классического эталона красоты из мира причудливых фантасмагорий. По мысли Гёте, нельзя найти эталон красоты, не погрузившись глубоко в античную культуру, ставшую одним из важнейших истоков европейской культуры. Недаром Фауст, очутившись на Фарсальской равнине, скажет: «Здесь Греция, и я в ее краю! // Я эту почву ощутил мгновенно // Сквозь тяжкий сон, мне сковывавший члены, // И, встав с земли, я, как Антей, стою». Именно здесь он возрождается духовно, как возродился сам Гёте, вдохнувший воздух Италии и открывший там заново античное искусство.
Когда-то в беседе с Эккерманом Гёте, посмеиваясь, сказал, что филологи долго будут потеть, объясняя его «Классическую Вальпургиеву ночь». Действительно, она напоминает сложный лабиринт символов и аллегорий, в которых зашифрована вся культура Эллады и последующая европейская культура. «Классическая ночь» напоминает самостоятельную пьесу – с прологом, тремя действиями и эпилогом. Три действия соответствуют трем стадиям становления античного мифологического сознания, греческой культуры. На первой («У верхнего Пенея») перед нами предстают еще достаточно мрачные, архаичные создания греческой мифологии – грифы, исполинские муравьи, сфинксы, сирены; на второй («У нижнего Пенея») к ним присоединяются нимфы и кентавры – полубоги и полулюди; на третьем этапе («У верховьев Пенея, как прежде») появляются люди, выдающиеся греческие мыслители, искавшие первоначало всех вещей, – Фалес, Анаксагор, появляются как воплощение мощи человеческого разума. Восходя по ступеням формирования античного сознания, Фауст постигает самый дух Эллады. Одновременно он выясняет все, что только можно узнать о Елене, и помогают ему в этих поисках и все мифологические существа, и мудрый кентавр Хирон, и греческие философы. Устами Хирона Гёте – вновь усмешливо – дает понять, что его Елена не совсем идентична известной мифологической героине, что поэт имеет право на собственное прочтение мифа, что Елена – вневременный идеал красоты и ее образ нельзя рассматривать как образ конкретной женщины:
…Года
Ее – ученых измышленье.
Мифическая героиня —
Лицо без возрастных примет.
Поэт дает без точных линий
Ее расплывчатый портрет.
Еще до совершеннолетья
У ней поклонников орда,
Когда она уже седа,
То и тогда еще в расцвете.
Не оставляя в ней следа,
Всю жизнь, сквозь все метаморфозы,
Грозят ей свадьбы и увозы.
Поэту время не указ.
Кажется, по логике поэта, в финале «Классической ночи» должна в конце концов появиться сама Елена – как апофеоз античного духа и искусства. Но вместо нее на колеснице в виде раковины выплывает Галатея, дочь морского старца Нерея. Понять, почему так распорядился Гёте, отчасти помогает общий дух эпилога («Скалистые бухты Эгейского моря»), где все существа радостно поют гимн чудесной природе, красоте физического мира и приветствуют Галатею, отчасти же – судьба Гомункула. Как и Фауст, он ищет свое предназначение, пытается постичь свою судьбу. Будучи чистым разумом, он не имеет человеческой телесности со всеми ее слабостями, но и с великой силой – прежде всего силой человеческих чувств, разнообразием ощущений и богатством эмоционального мира человека. Гёте дает понять, что настоящий человек слагается из гармонии физического и духовного начал, эмоционального и рационального. Человек не может жить только холодным рассудком. Вот почему Гомункул вмешивается в диспут Фалеса и Анаксагора о первоначалах бытия. Когда Фалес говорит, что «вся жизнь проистекла из влаги», Гомункул заявляет: «Простите, вторгнусь в вашу речь: //Ия хотел бы проистечь». Эта шутливая тирада несет в себе серьезный смысл: Гомункул хочет сказать, что он также стремится к настоящей, а не умозрительной жизни, что он хочет состояться как человек. Через диспут Фалеса и Анаксагора Гёте высказывает и свои научные взгляды на происхождение жизни: он стоит на позиции так называемого нептунизма, т. е. придерживается концепции происхождения жизни из воды, из мирового океана. Вот почему, по логике поэта, прав Фалес, дающий совет Гомункулу «довоплотиться» и говорящий о нем Протею: «Духовных качеств у него обилье, // Телесными ж его не наградили». Протей, в свою очередь, советует Гомункулу слиться с морской стихией: «Послушай, малый! В море средь движенья // Начни далекий путь свой становленья. // Довольствуйся простым, как тварь морей». А Фалес напутствует: «Пленись задачей небывалой, // Начни творенья путь сначала. // С разбегу двигаться легко. // Меняя формы и уклоны, // Пройди созданий ряд законный, – // До человека далеко». Пройдя через сложные метаморфозы, через различные стадии развития всего живого, Гомункул должен стать полноценным человеком.
Когда выплывает Галатея, которой передала свою миссию Афродита-Венера, Гомункул ощущает, как могучая сила – Эрос (Любовь) – устремляет его к ее трону, о который и разбивается его колба, а содержимое выплескивается в воду (так Фауста в финальной сцене первого акта неудержимо влечет к Елене). Смерть Гомункула – это только рождение его для новой жизни, для череды чудесных метаморфоз бытия, и в этой смене смертей и рождений он также родствен Фаусту. Гомункул возвращается к источнику жизни, охваченный огнем Эроса. Это единение рождающей бездны и стихии любви, а также всю красоту чувственного мира и воплощает, согласно замыслу Гёте, Галатея. Нужно научиться ценить и любить эту красоту, прежде чем открыть для себя красоту высшую, красоту Елены. Вот почему Галатея только предшествует Елене, а встреча Гомункула с Галатеей – встрече Фауста с Еленой. Так Гёте еще больше заостряет мысль о Елене как высшем эталоне красоты, предполагающей единство красоты телесной и духовной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: