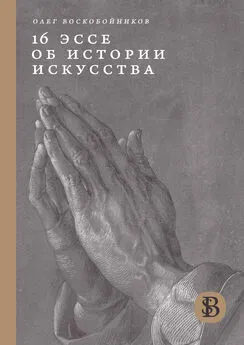Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада
- Название:Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0382-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада краткое содержание
Книга представляет собой очерк христианской культуры Запада с эпохи Отцов Церкви до ее апогея на рубеже XIII–XIV вв. Не претендуя на полноту описания и анализа всех сторон духовной жизни рассматриваемого периода, автор раскрывает те из них, в которых мыслители и художники оставили наиболее заметный след. Наряду с общепризнанными шедеврами читатель найдет здесь памятники малоизвестные, недавно открытые и почти не изученные. Многие произведения искусства иллюстрированы авторскими фотографиями, средневековые тексты даются в авторских переводах с латыни и других древних языков и нередко сопровождаются полемическими заметками о бытующих в современной истории искусства и медиевистике мнениях, оценках и методологических позициях.
О. Воскобойников – ординарный профессор Высшей школы экономики, сотрудник Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, PhD Высшей школы социальных наук в Париже, доцент кафедры истории Средних веков МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Золото и игра планов смогли столь четко выявить соотношение человеческих, земных и небесных сил, как это не мыслилось даже замечательным мастерам каролингского времени, с чьим творчеством оттоновские художники были хорошо знакомы. На правой странице действие ограничено едва различимыми жестами, сами фигуры превратились в воплощенные жесты, Gebärdefiguren , если воспользоваться еще одним непереводимым термином Янцена. Их роль лишь в том, чтобы выразить сакральность видения, которое, пожалуй, нельзя назвать даже «происходящим», потому что всякое действие есть рассказ, а рассказ отвлекает от чистого созерцания. Единственное действие налицо – подношение книги, но оно сознательно вынесено за «рамку»: Лютхар вместе с нами созерцает чудо.
Канторович совершенно справедливо трактовал апофеоз Оттона III с точки зрения истории имперской идеи; он нашел то, что хотел найти: сублимацию верхней части тела государя как художественную метафору сублимации власти вообще. Но его метафорическое прочтение, сколь бы они ни было привлекательным, не все объясняет. Действительно, описанные нами «места» и планы делят между собой тело государя, облаченное в торжественное одеяние, но лишенное каких-либо индивидуальных признаков, тело, вовсе не дематериализованное, а, напротив, очень живое и «плотное». Мы почти можем почувствовать его тяжесть благодаря иллюзионистическому эффекту игры складок, не говоря уже о суровой доле Tellus . Вместе с тем это плотное тело легко «возносится» Евангелием (кстати, тоже вполне натуралистичным покрывалом) в горние выси. Но так ли уж они недостижимы для простых смертных? Как мы только что убедились (во всяком случае, я надеюсь, что предложенное описание этому помогает), здесь нет ни одного замкнутого на себе самом плана, все они сообщаются или, если угодно, приобщаются друг к другу, соединяя – а не разъединяя – божественное и человеческое.
В этой миниатюре (как и во всех миниатюрах аахенской рукописи) поражает не только эта антикизирующая телесность человеческих фигур, символов евангелистов, покрывала, но и эмоциональная энергия, излучаемая широко распахнутыми, экстатическими глазами государя и его спутников, их одновременно сдержанными и выразительными позами и жестами, естественной, не орнаментализованной драпировкой их одежд, важнейшим выразительным средством в средневековом образе человека. Все это оттоновские художники переняли у раннехристианского искусства любимых Оттоном III Равенны и Рима, у Константинополя, у великих монастырских школ Каролингов. Умели они учиться и у работавших бок о бок с ними резчиков по слоновой кости и ювелиров. Но как им удалось сочетать эту эмоциональную напряженность с вечным покоем, на который нам указывают другие выразительные средства, абстрагирующие по своей природе и по художественной функции? Почему «плотная» и в общем-то по-своему натуралистичная фигура человека – на антинатуралистичной плоскости золотого листа? Говорит ли здесь желание художника возвести ассоциирующего себя с изображенным зрителя в плоти и крови к созерцанию надмирных тайн? Или перед нами сложный поиск равновесия между абстрактным и чувственным, глубиной и плоскостью, местом и Un-Raum ?
Напоследок отметим еще одну важную особенность описанной игры планов: обе страницы разворота ведут диалог между собой не только в открытом, но и, что удивительно, в закрытом состоянии. Если книгу закрыть, тяжелая, более значительная часть ее, 500 страниц евангельского текста, оказывается под изображением императора, легкая же часть, в дюжину листов, закрывает ее, словно крышка ларца: такое сравнение в данном случае более чем оправданно, потому что «коронационное Евангелие» было частью алтарной сокровищницы. Рамка, в которую вписан Лютхар, приходится ровно на выделенную темным пурпуром рамку аркады Оттона, вторая часть первого гекзаметра (TIBI COR DEUS INDUAT OTTO) приходится на сердце государя и на свиток. Лютхар, этот «вектор воли», направленный к императору, оказывается вместе с Tellus у подножия трона и возлагает изготовленное им «Евангелие» к ногам Оттона с почтением, не преступая «сферу» власти, – ведь он остается на своей странице, внутри своего ромба. Оттон же с его «двойственной природой», человеческой и, скажем так, более чем человеческой, чтобы избежать ницшеанских коннотаций, фактически получает «Евангелие» дважды: в материальной форме – из рук человека, и в духовной, прямо в сердце, от самих евангелистов. Слово DEUS оказывается на груди императора, будто для иллюстрации одной из важнейших в политическом богословии Средневековья максим: «Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Притч. 21, 1).
Этот диалог между помещаемыми на одном развороте миниатюрами крупноформатных рукописей раннего (и не только раннего) Средневековья не уникален: он встречается в других рукописях школы Райхенау, достаточно вспомнить «Евангельские чтения Генриха II» и «Бамбергский Апокалипсис». Однако сложность этого диалога, связанная с особым отношением к произведению искусства, в частности книге, как предмету ( Körperlichkeit des Bildes ), раскрыта относительно недавно Вольфгангом Кристианом Шнайдером, чьи наблюдения над этим специфическим эффектом оттоновских иллюминованных рукописей я лишь позволил себе немного развить в связи с интересующей меня миниатюрой (133). Впрочем, считать столь хитроумную находку оттоновских художников правилом на века тоже не стоит.
Предложенное здесь многослойное – и, боюсь, по необходимости многословное – прочтение хрестоматийного памятника может показаться искусственным, а «глубокая игра» – плодом воображения историка, у которого в данном случае нет возможности опереться на хоть что-нибудь объясняющие тексты. Действительно, в отличие от Каролингов или поколения Сугерия и Бернарда Клервоского, Оттоны не оставили нам почти никаких свидетельств того, как они относились к искусству, к художникам, к их произведениям. Нам мало что известно о том, как заказывались и создавались эти шедевры, хотя и самые куцые данные на этот счет, как я старался показать, бесценны. У нас нет ни одного политически или богословски значимого текста времен Оттона III, который подкрепил бы то, что выхватывает на миниатюре взгляд историка XX–XXI вв., – возможно, потому что оттоновская политика, неразрывно связанная с литургией, богослужением, привязывавшая все свои важнейшие начинания к христианским праздникам, просто не нуждалась в многословной саморефлексии. Но я также убежден, что сопоставление некоего текста с изображением, этим текстом описываемым, далеко не всегда ведет к единственно правильному его, изображения, толкованию: чтение «Карловых книг», Libri Carolini , написанных при участии Карла Великого против провозглашенного II Никейским собором иконопочитания, может создать впечатление, что Каролинги вообще не нуждались в изобразительном искусстве! Полезно знать, что думали парижские журналисты о картинах, выставлявшихся у Надара на бульваре Капуцинок в 1870-х гг., но нам не приходит в голову использовать нелестный, почти случайно брошенный одним из них эпитет «impression» в первоначальном его значении: мы предпочитаем вести диалог с полотнами, они – красноречивее. Точно так же необоснованно было бы расшифровывать живопись Кандинского, вооружившись исключительно его «трактатами» и лекциями, Климта – подшивкой «Ver sacrum», а Мондриана – его статьями в «De Stijl». Как верно писал Шатобриан по поводу Байрона, «не стоит спрашивать у лиры, о чем она думает, но о чем поет, нужно» («Замогильные записки». Кн. XII, гл. 4). Молчание текстов и обусловило мою попытку – очередную после многих предшествующих – подобрать правильные слова для описания того, что называется то «апофеозом», то «сценой посвящения», то «фронтисписом» Евангелия, исходя исключительно из того, что мы видим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



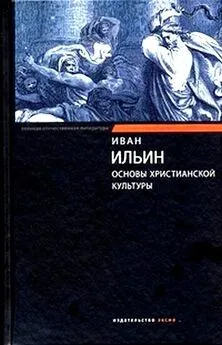
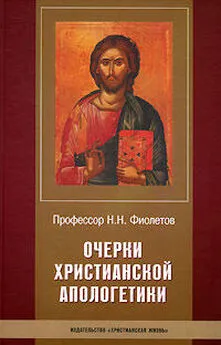



![Олег Климов - Пергамское царство [Проблемы политической истории и государственного устройства]](/books/1097431/oleg-klimov-pergamskoe-carstvo-problemy-politiches.webp)