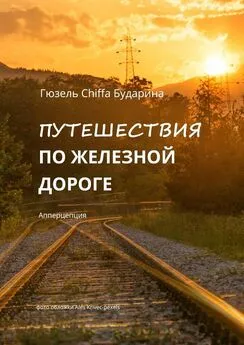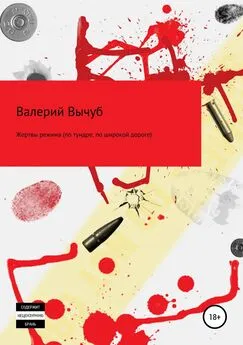Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но самое любопытное: строительство железнодорожной ветки Котлас — Воркута было завершено лишь 31 декабря 1941 года, стало быть, только в 1942-м появилась возможность добраться на поезде от Воркуты до Ленинграда. Строили дорогу заключённые Северного железнодорожного исправительно-трудового лагеря НКВД, который действовал с 1938 по 1950 год. Здесь отбывал срок и Пётр Смирнов, рассказавший Шурмаку о строительстве железной дороги, запечатлённой затем в знаменитой песне. О каком же «курьерском» поезде могла идти речь? Кто погнал бы во время войны пассажирский поезд высшей категории в блокадный Ленинград? Опытный сиделец поднял бы на смех лопоухого мальчугана, если бы тот «вклеил» в песню упоминание о «курьерском»…
Кстати, Григорий Шурмак настойчиво подчёркивает, что Смирнов был вором-рецедивистом, хотя тот говорит, будто попал в лагерь сам не знает за что. Конечно, впору вспомнить ироническую сентенцию о том, что все зэки сидят «ни за что» (как в анекдоте: «Врёшь! Ни за что червонец дают, а у тебя четвертак!»). Однако Шурмак и своего брата Изю причисляет к ворам (несмотря на то что тот был осуждён впервые и на ничтожный срок). Зачем? Возможно, чтобы объяснить, что могло побудить 17-летнего юношу к сочинению воровской баллады?
Но в мае 1942 года (когда был призван Смирнов) уголовников-рецидивистов не брали из лагерей в армию. Мобилизовали лишь тех, кто был осуждён за малозначительные преступления (как это случилось с Исааком Шурмаком). Да и сам вор, согласно «воровскому закону», не имел права брать оружие из рук власти — он сразу становился изгоем среди своих, «сукой». Перелом произошёл лишь в 1943 году, после знаковых поражений немцев под Сталинградом и на Курской дуге, когда Красная армия окончательно перешла в наступление и стало ясно, что она войдёт в Европу. Тогда у многих воров душа и дрогнула… Так что не исключено, что Пётр Смирнов в самом деле вором не был. Хотя что ему мешало немного присочинить, покрасоваться перед молодым пареньком? Но вот причислять к ворам родного брата — это уже перебор.
К слову: в справочнике «Путеводитель по шансону-2» Михаил Дюков приписывает Григорию Шурмаку авторство и другой широко известной лагерной песни — «Спецэтап» (Дюков называет её «Эшелоном»). Рассказывая о послевоенном танго «Тоска по Родине», которое обрело популярность благодаря замечательному певцу Петру Лещенко, Дюков сообщает:
«На мотив танго “Тоска по Родине” примерно же в эти годы (1945-й. — А. С. ) советский поэт Григорий Шурмак, под впечатлением рассказов своего брата, только что вернувшегося из заключения, написал другой неувядающий хит — “Эшелон”.
Чередой за вагоном вагон,
Мерным стуком по рельсовой стали,
Спецэтапом идет эшелон
Из столицы в колымские дали».
Это, разумеется, совершенная нелепость. Своего брата, попавшего в лагерь, Григорий Шурмак никогда уже более не увидел: Исаак погиб на Волховском фронте и в 1945 году не мог «только что вернуться из заключения». Песню «Спецэтап» Шурмак не писал и никогда этого не утверждал. Дюков перепутал «Спецэтап» и «По тундре», поскольку обе начинаются с упоминания железной дороги. А проверить не удосужился. Что неудивительно: несколькими абзацами выше он, например, утверждает, что «Вертинский пел… “Журавлей” одного из братьев Жемчуговых (создателей образа Козьмы Пруткова)». Слава богу, что не братьев Жемчужных вместе с Аркашей Северным. Это называется — слышал звон… Даже школьнику понятно, что речь идёт о братьях Жемчужниковых, один из которых, Алексей, действительно написал в 1871 году стихотворение «Осенние журавли», значительно позднее, после Второй мировой войны, ставшее популярной песней.
Подведём итог. Несомненно одно: факт встречи Шурмака и Смирнова. Обе стороны признают, что встречались и пели, но каждая приписывает авторство песни «По тундре» себе. Сам текст стилистически разнороден. Явных доказательств авторства ни у Шурмака, ни у Смирнова нет — равно как и косвенных. Хотя легче, конечно, поверить в авторство Шурмака. Но «легче» в данном случае не значит «правильнее». Во всяком случае, для меня этот вопрос остаётся открытым. Да и сам факт создания-исполнения в 1942 году первоначального варианта песни «По тундре» вызывает у меня большие сомнения. За читателем остаётся право — соглашаться со мною или нет. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы подобное суждение было вынесено после прочтения очерка целиком.
«Чтобы нас не настигнул пистолета разряд»
Выше мы привели наиболее полный и самый короткий варианты песни о побеге из воркутинского лагеря. Однако всё-таки «каноническим» традиционно считается текст, который находится как бы в промежутке между этими двумя вариантами. Он существует в самых разных версиях, но, по сути, в основе своей они схожи. Во всяком случае, до 1996 года, когда вышли «Блатные пионерские» с расширенным текстом «По тундре» (и близкий к нему текст Константина Беляева), песня звучала несколько иначе. В качестве примера привожу исполнение Юрия Никулина 2001 года; близко к нему исполнение Валентина Гафта и Олега Басилашвили в фильме «Небеса обетованные» 1991 года:
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра наденет свой зелёный наряд.
Мы бежали с тобою от проклятой погони,
От проклятой погони, громких криков «Назад!».
Припев:
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута — Ленинград,
Мы бежали с тобою от проклятой погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета разряд.
Дождик капал на рыла и на дула наганов,
Вохра нас окружила, «Руки вверх!» — говорят.
Но они просчитались, окруженье пробито:
Кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять!
Припев.
Я сижу в одиночке и плюю в потолочек,
Пред людьми я виновен, перед Богом я чист.
Предо мною икона и запретная зона
И на вышке маячит надоевший чекист.
Припев.
Мы теперь на свободе, о которой мечтали,
О которой так много в лагерях говорят.
Перед нами раскрылись необъятные дали,
Нас теперь не настигнет пистолета разряд!
Припев.
Почти каждая строка этой песни существует во множестве всевозможных версий. Даже для того, чтобы очень поверхностно сопоставить их и проанализировать, потребовалась бы книга немалого объёма. В рамках нашего очерка мы не станем погружаться в глубины текстологии, но при необходимости, конечно же, нам не раз придётся рассматривать различные варианты не только строк, но и слов.
Однако, прежде чем начать анализ текста, необходимо разобраться с тем, на какую музыку он положен: ведь песня — это симбиоз стихов и музыки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: