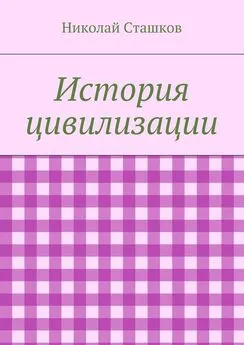Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации
- Название:Жизнь Греции. История цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крон-Пресс
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-232-00347-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации краткое содержание
Используя синтетический метод, американский ученый заставляет читателя ощутить себя современником древних греков. Написанная живым и остроумным языком грандиозная панорама жизни Эллады — от политики и морали до искусства и философии — может послужить и первоклассным учебником, и справочным пособием, и просто увлекательным чтением для всех интересующихся античностью.
Жизнь Греции. История цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы не найдем у Платона системы, и если в нашем изложении его идеи порядка ради обобщаются под классическими рубриками логики, метафизики, этики, эстетики и политики, то следует помнить, что Платон был слишком глубоким поэтом, чтобы сковывать свою мысль определенными рамками. Как поэту труднее всего ему дается логика; он блуждает в поисках определений и теряется среди опасных аналогий: «…подобно заблудившимся в лабиринте, мы подумали было, что мы уже у самого выхода; и вдруг, оглянувшись назад, мы оказались как бы снова в самом начале, заново испытав нужду в том, с чего начались наши искания» [1888]. Он заключает: «Я не уверен, существует ли вообще такая наука наук», как логика [1889]. Тем не менее он кладет ей начало. Он исследует природу языка и выводит ее из подражания с помощью звуков [1890]. Он рассматривает анализ и синтез, аналогии и логические ошибки, признает индукцию, но предпочитает дедукцию [1891], он создает — даже в этих популярных диалогах — такие специальные термины, как сущность, сила, действие, претерпевание, возникновение , которые окажутся полезными для позднейшей философии, наконец, он перечисляет пять из десяти «категорий», которым отчасти обязан своей славой Аристотель. Он отвергает воззрение софистов, по которому чувства — лучший критерий истины, и взгляд на человека как на «меру всех вещей»; будь это так, доказывает он, тогда свидетельства о мире любого спящего, любого безумца, любого болвана ничем не уступали бы свидетельствам мудреца [1892].
Все, что способен нам дать «рой ощущений», — это Гераклитов поток перемен; если бы у нас не было ничего, кроме ощущений, то у нас не было бы никакого знания и никакой истины. Знание возможно благодаря идеям — обобщенным образам и формам, которые вносят порядок мысли в хаос ощущений [1893]. Если бы в нашем сознании присутствовало только единичное, мышление было бы невозможно. Мы учимся мыслить, группируя вещи по классам сообразно их подобию и выражая класс как целое с помощью нарицательного существительного; слово человек позволяет нам мыслить обо всех людях, стол — обо всех столах, свет — о любом свете, когда-либо сиявшем на земле или на море. Эти идеи ( ideai, eide ) не являются объектом ощущений, но реальны для мышления, так как пребывают неизменными даже тогда, когда все чувственные предметы, которым они соответствовали, уже уничтожились. Люди рождаются и умирают, но человек остается. Каждый единичный треугольник — всего лишь несовершенный треугольник; рано или поздно он прекращает существовать и поэтому относительно нереален; но треугольник как форма и закон всех треугольников — совершенен и вечен [1894]. Все математические формы суть идеи, вечные и самодостаточные [1895]; все, что геометрия говорит о треугольниках, кругах, квадратах, кубах, сферах, не утратит своей истинности, а стало быть, и «реальности» даже в том случае, если бы эти фигуры никогда не существовали в физическом мире. В этом смысле реальность присуща и абстракциям; отдельные проявления добродетели недолговечны, но добродетель остается неизменной реальностью и инструментом мысли; то же относится к красоте, величине, сходству и так далее; они столь же реальны для ума, как прекрасные, большие и схожие вещи реальны для восприятия [1896]. Единичные действия или вещи суть то, что они суть, благодаря причастности к этим совершенным формам или идеям и большему или меньшему их осуществлению. Мир науки состоит не из единичных вещей, но из идей [1897] [1898]; история — в отличие от биографии — это рассказ о человеке ; биология — это наука не об отдельных организмах, но о жизни ; математика изучает не конкретные вещи, но число, отношение и форму, независимые от вещей и все же имеющие силу относительно всех вещей. Философия — это наука об идеях.
Вся платоновская метафизика вращается вокруг теории идей. Бог, неподвижный перводвигатель, или душа мира [1899], приводит в движение и направляет все вещи в согласии с вечными законами и формами, совершенными и неизменными идеями, которые образуют, как сказали бы неоплатоники, Логос , или божественную мудрость, или Разум Бога. Высшая из идей — идея блага. Иногда Платон отождествляет ее с самим Богом [1900]; чаще она предстает как важнейшее орудие творения, высшая форма, к которой влекутся все вещи. Постичь идею блага, узреть оформляющий идеал процесса творения — такова высочайшая цель познания [1901]. Движение и творение осуществляются не механически; в мире, как и в нас самих, им необходима душа, или жизненное начало, как порождающая их сила [1902].
Реально лишь то, что обладает силой [1903]; поэтому материя является не фундаментальной реальностью ( to mе on ), но просто принципом инерции, потенцией, нуждающейся в Боге или в душе, которые придают ей специфическую форму, и соответствующей какой-нибудь идее. Душа — это самодвижущая сила в человеке и часть самодвижущей души всех вещей [1904]которая представляет собой чистую жизненность, бестелесную и бессмертную. Она существовала прежде тела и из прежних своих воплощений приносит с собой множество воспоминаний, которые, пробужденные новой жизнью, ошибочно принимаются за новые знания. Таким образом, являются врожденными, например, все математические истины; учение просто способствует припоминанию вещей, известных душе за много жизней до этого [1905]. После смерти душа, или принцип жизни, переходит в другие организмы — низшие или высшие, в соответствии с заслугами, добытыми ею в прежних аватарах. Возможно, грешная душа попадает в чистилище или в ад, а душа праведника отправляется на Острова Блаженных [1906]. Если после различных существований душа очистится от всех проступков, она освобождается от новых перевоплощений и наслаждается вечным блаженством в раю [1907] [1908].
Платон знает, что среди его читателей найдется немало скептиков, и некоторое время силится отыскать естественную этику, которая обратит души к справедливости без оглядки на небеса, чистилище и преисподнюю [1909]. Диалоги среднего периода все меньше уделяют внимания метафизике, все больше вращаются вокруг морали и политики. «Величайший и прекраснейший род мудрости — тот, который касается устроения государств и семей» [1910]. Проблема этики кроется в очевидном конфликте между удовольствием индивидуума и благом общества. Платон не преуменьшает трудности этой проблемы и вкладывает в уста Калликла такие доводы в пользу эгоизма, каким мог бы позавидовать любой имморалист [1911]. Он признает, что многие удовольствия являются благом; отличать благие удовольствия от пагубных должен разум, а из опасения, что разум может проснуться слишком поздно, молодежи следует прививать умеренность, чувство золотой середины [1912].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: