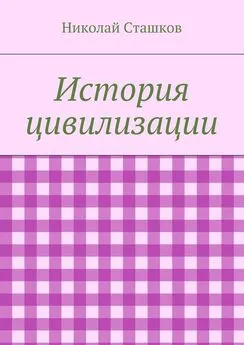Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации
- Название:Жизнь Греции. История цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крон-Пресс
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-232-00347-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации краткое содержание
Используя синтетический метод, американский ученый заставляет читателя ощутить себя современником древних греков. Написанная живым и остроумным языком грандиозная панорама жизни Эллады — от политики и морали до искусства и философии — может послужить и первоклассным учебником, и справочным пособием, и просто увлекательным чтением для всех интересующихся античностью.
Жизнь Греции. История цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С экономической точки зрения, население также распадалось на три группы. Выше всех стояли эвпатриды, жившие в относительной роскоши в городах, пока рабы и наемные рабочие возделывали их сельские поместья, а купцы приносили им прибыль с предоставленных ими ссуд. Следующими по богатству были демиурги , или «работающие для народа», — т. е. специалиста, ремесленники, торговцы и свободные неквалифицированные рабочие После того как колонизация открыла новые рынки, а чеканка монеты освободила торговлю, неуклонно возрастающее могущество этого класса превратилось в ту взрывную силу, что отвоевала ему долю в правительстве при Солоне и Писистрате и достигла своего апогея при Клисфене и Перикле. Большинство рабочих были свободными; рабы все еще составляли меньшинство, даже в низших классах [366] Meyer, Ed., in Zimmem, 396.
. Беднее всех были георгой , буквально земледельцы, мелкие крестьяне, сражающиеся со скупостью почвы и алчностью ростовщиков и феодальных помещиков, утешаемые лишь гордым сознанием владения клочком земли.
У некоторых из этих крестьян когда-то были обширные наделы; но их жены оказались щедрее их земли, и из поколения в поколение эти участки дробились между сыновьями. Коллективное владение имуществом рода или патриархальной семьи стремительно отходило в прошлое, а ограды, рвы и изгороди служили признаком расцвета ревнивой индивидуальной собственности. По мере того как наделы уменьшались, а сельская жизнь становилась все менее обеспеченной, многие крестьяне продавали свои землй — несмотря на штрафы и лишение гражданских прав, которыми карались такие сделки, — и перебирались в Афины или меньшие города, где становились торговцами, ремесленниками, чернорабочими. Другие, не способные справиться с обязанностями собственника, превращались в арендаторов, возделывающих поместья эвпатридов, — гектеморов , или «издольщиков», удерживавших часть продукции как свою заработную плату [367] Аристотель (Constitution, 2) говорит, что эти «шестидолыцики» выплачивали землевладельцу одну шестую своего урожая, и ему следует Плутарх («Солон»); однако современная наука склоняется к тому мнению, что шестая часть урожая не выплачивалась, а оставлялась. Ср. Вигу, 174; Glotz, Greek City, 102.
. Иные продолжали бороться, занимали деньги, закладывая свою землю под высокие проценты, и, будучи не в состоянии расплатиться, оказывались прикрепленными к земле своими кредиторами и работали на них как крепостные. Держатель залога считался гипотетическим владельцем этой собственности, пока залог не будет погашен, и помещал на заложенную землю каменную плиту, объявляющую о его праве собственника [368] Botsford, Athenian Constitution, 141.
. Небольшие наделы становились все меньше, число свободных земледельцев сокращалось, крупные наделы все росли. «Немногие собственники, — говорит Аристотель, — обладали всей землей, а землепашцы могли продаваться, словно рабы, вместе со своими женами и детьми», даже на чужбину «в случае неуплаты арендной платы» или долгов [369] Aristotle, Constitution, 2.
. Заморская торговля и вытеснение бартера денежными операциями нанесли по крестьянину еще один удар, так как конкуренция с привозным продовольствием сбивала цены на продукцию, тогда как цены на промышленные товары, которые ему приходилось покупать, определялись силами, находящимися вне его контроля, и необъяснимым образом росли из десятилетия в десятилетие. Неурожайный год разорил многих хозяев, а некоторых довел до голодной смерти. Бедность сельского населения Аттики возросла настолько, что войну приветствовали как избавительницу: благодаря ей можно было захватить новые земли, и кормить пришлось бы куда меньше ртов [370] Glotz, Ancient Greece, 61, 80, Greek City, 102.
.
Тем временем в городе не сдерживаемые законом средние классы довели свободных работников до нищеты и постепенно заменяли их рабами [371] Glotz, Ancient Greece, 71.
. Мускульная сила подешевела настолько, что всякий, кто мог ее приобрести, считал ниже своего достоинства работать собственными руками; ручной труд стал признаком кабалы, занятием, недостойным свободного человека. Землевладельцы, завидуя росту богатства купеческого класса, продавали за границу зерно, необходимое для пропитания их арендаторов, а в конце концов, по праву кредитора, стали продавать и самих афинян [372] САН, IV, 33.
.
Какое-то время люди надеялись, что законодательство Драконта принесет избавление от этих зол. Около 620 года этому фесмофету, или законодателю, было поручено кодифицировать и впервые записать систему законов, способную восстановить в Аттике порядок. Насколько мы знаем, главными достижениями его законодательства было предоставление «новым богачам» права избираться на должность архонта и замена кровной мести законом: отныне все дела о человекоубийстве должен был разбирать сенат Ареопага. Последнее нововведение имело фундаментальное и прогрессивное значение; но чтобы внедрить его в жизнь, чтобы убедить жаждущих отмщения принять его как более надежное и суровое средство возмездия, он присовокупил к своим законам столь жестокие наказания, что после того, как большая часть его законодательства была заменена Солоном, Драконта помнили скорее из-за его наказаний, чем из-за его законов. Кодекс Драконта закрепил жестокие обычаи безудержного феодализма; он не сделал ничего, чтобы вызволить должников из рабства или смягчить эксплуатацию слабого сильным; и хотя он чуть расширил круг избирателей, класс эвпатридов сохранил полный контроль над судами, не поступившись властью толковать на свой лад все законы и постановления, затрагивающие его интересы [373] Там же.
. Собственники защищались Драконтом более рьяно, чем когда-либо в прошлом; мелкая кража и даже праздность карались — когда дело касалось граждан — лишением гражданских прав и смертью, если речь шла об иностранцах [374] «Укравший капусту или яблоко должен был претерпеть то же, что и негодяй, совершивший святотатство или убийство». — Плутарх, «Солон».
[375] Grote, III, 293–294; Coulanges, 418.
.
Когда седьмой век приблизился к концу, озлобление беспомощной бедноты против защищенного законом богатства поставило Афины на грань революции. Равенство противно природе, и там, где способности и ловкости предоставлена свобода, неравенство будет расти до тех пор, пока не уничтожит самое себя в беспощадном оскудении гражданской войны; свобода и равенство не товарищи, но враги. Концентрация богатства начинается, будучи неизбежной, и заканчивается, становясь роковой. «Имущественное неравенство между богатыми и бедными, — говорит Плутарх, — достигло своей вершины, так что казалось, будто город находится в поистине опасном положении, и единственным возможным средством спасти его от потрясений представлялась деспотическая власть» [376] Плутарх, «Солон».
. Беднота, находя, что ее положение ухудшается с каждым годом — правительство и армия в руках их господ, а коррумпированные суды решают каждое дело не в их пользу [377] Botsford, Constitution, 143.
, — заговорила о насильственном перевороте и полном перераспределении богатств [378] Pohlmann, 158; Glotz, Ancient Greece, 71.
. Богатые, неспособные более собирать долги, причитающиеся им по закону, и раздраженные угрозой их сбережениям и имуществу, взывали к древним законам [379] Glotz, Greek City, 119.
и готовились силой защитить себя от толпы, которая, казалось, угрожала не только собственности, но всему устоявшемуся порядку, религии и самой цивилизации.
Интервал:
Закладка: