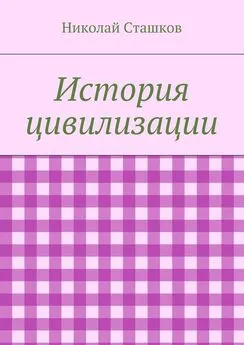Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации
- Название:Жизнь Греции. История цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крон-Пресс
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-232-00347-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации краткое содержание
Используя синтетический метод, американский ученый заставляет читателя ощутить себя современником древних греков. Написанная живым и остроумным языком грандиозная панорама жизни Эллады — от политики и морали до искусства и философии — может послужить и первоклассным учебником, и справочным пособием, и просто увлекательным чтением для всех интересующихся античностью.
Жизнь Греции. История цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Невероятно, но в этот критический для Афин момент, столь часто повторяющийся в истории народов, нашелся человек, который смог без единого акта насилия, без какого-либо злоречия убедить богатых и бедных заключить компромисс, чем не только предотвратил социальный хаос, но и установил новый, более справедливый политический и экономический порядок на всю оставшуюся историю независимых Афин. Мирная революция Солона — одно из тех исторических событий, которые вселяют надежду.
Отец его был чистокровным эвпатридом, родственником потомков царя Кодра, и даже возводил свою родословную к самому Посидону. Его мать была двоюродной сестрой матери диктатора Писистрата, который поначалу нарушит, а затем укрепит Солонову конституцию. В молодости Солон самым энергичным образом жил жизнью своего времени: писал стихи, воспевал радости «греческой дружбы» [380] Плутарх, Amatorius, 751 c, in Linfortli, 1.М., Solon the Athenian, Berkeley, Cal., 1919, 156–157.
и, словно новый Тиртей, своими стихами вдохновил афинян на захват Саламина [381] Диоген Лаэртский, «Солон», II.
. В зрелости его нравы улучшились в обратной пропорции к его поэзии; его строфы стали монотонными, а советы превосходными. «Многие негодяи богаты, — говорит он, — тогда как те, что лучше их, бедны. Но мы не променяем то, что мы есть, на то, чем они обладают, потому что сей дар непреходящ, другие же переходят от человека к человеку». Богатству богатых «ничуть не уступает тот, чье единственное достояние — желудок, легкие и ноги, приносящие ему радость, а не боль, цветущие прелести отрока или девушки и существование в гармонии со сменяющимися, временами жизни» [382] Плутарх, «Солон».
. Однажды, когда в Афинах случилось восстание, он не встал ни на чью сторону, счастливо воспользовавшись нейтралитетом до того, как его прославленное законодательство объявит подобную осмотрительность преступной [383] Диоген Лаэртский, «Солон», IX.
. Но он, не колеблясь, осуждал методы богатых, посредством которых те довели массы до отчаянной нужды [384] Аристотель, Constitution, 5; Grote, III, 313; Botsford, 158.
.
Если верить Плутарху, отец Солона «разорился, оказывая милости и благодеяния другим людям». Солон занялся торговлей и стал удачливым купцом с далеко простирающимися интересами, что позволило ему много путешествовать и приобрести широкий опыт. Его дела были столь же достойны, как и его проповеди, ибо он стяжал среди всех классов репутацию исключительно честного человека. Он был еще относительно молод — сорока четырех или сорока пяти лет, — когда в 594 году представители средних классов попросили его принять номинальный пост архонта-эпонима, облеченный, однако, диктаторскими полномочиями, дабы Солон мог предотвратить гражданскую войну, установить новую конституцию и вернуть государству стабильность. Высшие классы, полагаясь на консерватизм человека со средствами, нехотя согласились.
Его первыми мерами были простые, но решительные экономические реформы. Он разочаровал крайних радикалов, не сделав ни шагу к переделу земли; такая попытка означала бы гражданскую войну, воцарение хаоса на целое поколение и быстрое возвращение неравенства. Но посредством своей знаменитой сисахфии ( seisachtheia ), или «стряхивания бремени», Солон, по словам Аристотеля, аннулировал «все долги, причитались ли они частным лицам или государству» [385] Вероятно, это не относилось к коммерческим долгам, где не стоял вопрос о личном закабалении (САН, IV, 38.).
[386] Aristotle, 6, 12.
; одним ударом он освободил аттические земли от всех закладных. Все лица, обращенные в рабство или закрепощенные за долги, были отпущены на волю; проданные за границу были вытребованы обратно и освобождены; на будущее такое закабаление было запрещено. Люди остаются людьми: некоторые друзья Солона, прослышав о его намерении аннулировать долги, купили по закладным крупные участки земли, а позднее удержали их при себе, не выкупив их из залога; со свойственным ему огоньком юмора Аристотель сообщает, что это легло в основу многих состояний, которые «в позднейшие времена считались восходящими в незапамятную древность» [387] Аристотель, 6.
. Солона подозревали в том, что он был замешан в этом сговоре и нажился на нем, пока не выяснилось, что после принятия своего закона он понес большие убытки, будучи крупным кредитором [388] Плутарх, «Солон».
. Богатые неопровержимо доказывали, что этот закон — не что иное, как конфискация; но в течение десяти лет все пришли к единодушному выводу, что данная мера спасла Аттику от революции [389] Grote, III, 319.
.
О другой Солоновой реформе трудно говорить с определенностью. Солон, отмечает Аристотель, «заменил Филоновы меры» — т. е. эгинскую монету, использовавшуюся в Аттике прежде, — «евбейской системой с более крупными делениями и сделал так, что мина [390] Относительно стоимости афинских монет см. главу 12, раздел 111.
, содержавшая прежде семьдесят драхм, отныне равнялась сотне» [391] Аристотель, 10.
. Согласно более полному сообщению Плутарха, Солон «сделал так, что мина, прежде стоившая семьдесят три драхмы, отныне стоила сто; тем самым, хотя количество денег в обращении осталось прежним, их ценность снизилась; это оказалось значительным благодеянием для тех, кому предстояло расплачиваться с крупными долгами, и не принесло убытка кредиторам» [392] Плутарх, ук. место.
. Только мягкий и щедрый Плутарх мог изобрести форму инфляции, облегчающую положение должников без ущерба для кредиторов; впрочем, не станем забывать, что в иных случаях половина лучше, чем ничего [393] Гроут и многие другие истолковывали утверждение Плутарха следующим образом: Солон обесценил монету на двадцать семь процентов, оказав тем самым поддержку тем землевладельцам, которые, задолжав другим сами, были лишены доходов по закладным, необходимых им для выполненйя собственных обязательств (Grote, III, 316; Mahafly, What Have the Greeks Done for Civilization? 186.). Однако такая инфляция стала бы вторым ударом, обрушившимся на тех землевладельцев, что ссужали деньгами купцов; если она кому-нибудь и помогла, то именно купцам, а не землевладельцам и не крестьянам, чьи закладные уже были прощены. Возможно, Солон не собирался обесценивать монету, но просто хотел заменить монетный стандарт, удобный для торговли с Пелопоннесом, на другой, который способствовал бы торговле с богатыми и растущими рынками Ионии, где в общем употреблении находился эвбейский стандарт» (САН, IV, 134; Bury, 183.).
.
Более долговечными, чем эти экономические реформы, были исторические декреты, создавшие Солонову конституцию. Солон предварил их актом амнистии, освободившим или восстановившим в правах всех политических изгнанников и заключенных, кроме лиц, пытавшихся узурпировать власть в государстве. Он отменил — напрямую или косвенно — большинство законов Драконта; закон, касающийся убийства, остался нетронутым [394] Плутарх, ук. место.
. Революцией было уже то, что законы Солона относились ко всем свободным гражданам без исключения; богатые и бедные были отныне связаны одинаковыми ограничениями и подлежали одинаковым наказаниям. Понимая, что его реформы стали возможными благодаря поддержке купеческого и промышленного классов, рассчитывающих на получение значительной доли в правительстве, Солон разделил население Аттики на четыре группы сообразно с их богатством: первую составили пентакосиомедимны , или «пятисотмедимные», чей ежегодный доход достигал пятисот мер продукции или ее эквивалента [395] Медимн. — около полутора бушелей — считался эквивалентным одной драхме в денежном выражении.
; вторую — всадники ( hippes ), чьи доходы превышали триста и не доходили до пятисот мер; третью — зевгиты ( zeugitai ) с доходами от двухсот до трехсот мер; четвертую — феты ( thetes ), или прочее свободное население. Почести и налоги определялись в соответствии с той же шкалой, и пользоваться первыми можно было только после уплаты последних; более того, первый класс должен был вносить двенадцатикратную, второй — десятикратную, третий — только пятикратную сумму своего ежегодного дохода; налог на имущество был в действительности прогрессивным подоходным налогом [396] Аристотель, 12; Grote, III, 331–332.
. Четвертый класс был освобожден от прямого налогообложения. На должности архонта или главнокомандующего могли избираться только представители первого класса; представители второго избирались на второстепенные государственные посты и служили в коннице; третий класс обладал привилегией составлять тяжеловооруженную пехоту; из четвертого государство рекрутировало простых воинов. Такая своеобразная классификация ослабила родовой строй, на который опиралась власть олигархии, и установила новый принцип «тимократии» — правление чести или престижа, определяемых на основании налогооблагаемого богатства. Схожая «плутократия» господствовала на протяжении шестого и части пятого века в большинстве греческих кблонир.
Интервал:
Закладка: