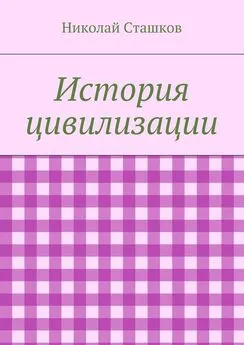Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации
- Название:Жизнь Греции. История цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крон-Пресс
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-232-00347-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Дюрант - Жизнь Греции. История цивилизации краткое содержание
Используя синтетический метод, американский ученый заставляет читателя ощутить себя современником древних греков. Написанная живым и остроумным языком грандиозная панорама жизни Эллады — от политики и морали до искусства и философии — может послужить и первоклассным учебником, и справочным пособием, и просто увлекательным чтением для всех интересующихся античностью.
Жизнь Греции. История цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
За три тысячи лет до Христа здесь процветала неолитическая культура, за две тысячи лет до Христа — культура Бронзового века; уже в минойскую эпоху торговля связала остров с Критом и Грецией [606] Childe, V. G., Dawn of European Civilization, N.Y., 1925, 93—100.
. В конце второго тысячелетия о сицилийские берега разбились три волны иммиграции: из Испании пришли сиканы, из Малой Азии — элимы, из Италии — сикулы [607] Фукидид, VI, 18; Диодор, V, 2.
. Около 800 года финикийцы укрепились в Мотии и Панорме (Палермо) на западе. После 735 года [608] Или, быть может, на поколение позднее.
сюда хлынули греки и быстро, один за другим основали города Наксос, Сиракузк, Леонтины, Мессану (Мессина), Катану, Гелу, Гимеру, Селинунт и Акрагант. Во всех этих случаях местные жители вытеснялись с побережья силой оружия. Большинство из них ушли возделывать гористую середину острова, некоторые попали в рабство к захватчикам, а из остальных столь многие породнились с завоевателями, что кровь, характер и нравы здешних греков приобрели заметный налет исконной сицилийской страстности и чувственности [609] Grote, IV, 149.
. Эллины никогда не контролировали весь остров целиком; финикийцы и карфагеняне по-прежнему господствовали на западном побережье и в течение пяти столетий борьба греков и семитов, Европы и Африки за обладание Сицилией давала знать о себе периодическими войнами. После тринадцати столетий римского владычества, в средние века, схватка будет возобновлена, на этот раз между норманнами и сарацинами.
Катана прославилась своими законами, Липарские острова — коммунизмом, Гимера — поэтом, Сегеста, Селинунт и Акрагант — храмами, Сиракузы — могуществом и богатством. Законы, данные Катане Харондом за целое поколение до Солона, послужили образцом для многих городов Сицилии и Италии и способствовали утверждению общественного порядка и половой морали в общинах, не защищенных древними нравами и священными прецедентами. Харонд постановил, что муж вправе развестись с женой или жена с мужем, но после этого ни он, ни она не могут вступить в брак с лицом, младшим их прежнего супруга [610] Freeman, E. A., Story of Sicily, N.Y., 1892, 65.
. Согласно типичной греческой легенде, Харонд запретил гражданам являться на собрания при оружии. Однажды он, правда, сам пришел на народную сходку, по забывчивости имея при себе меч. Когда один из избирателей упрекнул его в нарушении собственного закона, Харонд ответил: «Скорее я его укреплю», — и пронзил себя мечом [611] Там же.
.
Если мы хотим наглядно представить жизненные тяготы в колониях, приобретенных с помощью насильственного завоевания, достаточно только взглянуть на причудливый коммунизм Липарских, или Славных, островов, лежащих к северу от Восточной Сицилии. Около 580 года некие книдские пираты устроили здесь пиратский рай. Наживаясь на торговле вокруг Мессинского пролива, они доставляли добычу в свои логова на острове, где делили ее с образцовым равенством. Земля принадлежала общине, часть населения должна была ее обрабатывать, а продукция поровну распределялась среди всех граждан. Со временем, однако, индивидуализм взял свое: землю поделили на участки, принадлежащие отдельным лицам, и жизнь снова потекла по ухабистой колее конкуренции.
На северном побережье Сицилии лежит Гимера, которой была отведена роль западных Платей. В эпоху, когда греки устали от эпоса, здесь жил Стесихор, Устроитель Хоров, перелагавший в хоровую лирику легенды народа и придавший даже Елене и Ахиллу преходящую новизну «модного платья». Как бы преодолевая пропасть между умирающим эпосом и будущим романом, Стесихор слагал любовные новеллы в стихах; в одной из них чистый и робкий юноша умирает от неразделенной любви в духе провансальского мадригала или викторианской беллетристики. В то же время он подготовил путь для Феокрита, написав пасторальную поэму на смерть пастуха Дафниса, чья любовь к Хлое станет главным свершением греческого романа римской эпохи. У Стесихора был собственный роман, причем его героиней стала не кто иная, как сама Елена. Утратив зрение, он объяснил свое несчастье тем, что изложил в стихах сказание о прелюбодеянии Елены; чтобы искупить свое прегрешение перед ней (ибо она была богиней), он сочинил «палинодию», или вторую песнь, уверяя мир, что Елена была похищена силой, никогда не отдавалась Парису, никогда не уплывала в Трою, но, невредимая, пребывала в Египте, пока Менелай не явился ее спасти. В старости поэт предостерегал Гимеру от передачи диктаторских полномочий Фалариду Акрагантскому [612] Он облек свое предостережение в форму басни. Лошадь, раздраженная вторжением на ее пастбище быка, попросила человека помочь ей наказать незваного пришельца. Человек пообещал сделать это при условии, что лошадь позволит ему проскакать на ней с дротиком в руке. Лошадь согласилась, бык был напуган и бежал прочь, а лошадь обнаружила, что отныне находится в рабстве у человека.
. Оставшись неуслышанным, он переселился в Катану, где его монументальная гробница стала одной из достопримечательностей римской Сицилии.
К западу от Гимеры находится Сегеста, от которой не сохранилось ничего, кроме перистиля из неоконченных дорических колонн, причудливо возвышающихся над зарослями сорняка. Чтобы обнаружить лучшие образцы сицилийской архитектуры, нам следует пересечь остров с севера на юг и побывать в некогда великих городах Селинунте и Акраганте. За срок своего трагического существования основанный в 651 и разрушенный карфагенянами в 409 году Селинунт возвел своим безмолвным богам семь дорических храмов, отличавшихся огромными размерами и несовершенством отделки, покрытых разрисованной штукатуркой и украшенных грубыми рельефами. Демон землетрясения разрушил эти храмы в неизвестную нам эпоху, и от них мало что сохранилось, кроме обломков колонн и разбросанных по земле капителей.
Акрагант, римский Агригент, был в шестом веке самым большим и богатым городом Сицилии. Мы видим мысленным взором, как он возносится над хлопочущими причалами и шумной агорой, прирастая домами на склоне холма и державным акрополем, чьи святилища поднимали верующих к самым небесам. Здесь, как и в большинстве греческих колоний, землевладельческая аристократия уступила власть диктатуре, представлявшей главным образом интересы среднего класса. В 570 году власть захватил Фаларид, обессмертивший себя тем, что изжаривал своих врагов в медном быке; особенно ему приглянулось устройство, благодаря которому вопли агонизирующих жертв, проходя по специальным трубам, напоминали рев этого животного [613] Полибий, XII, 25.
. Однако именно ему и следующему диктатору Ферону город был обязан порядком и стабильностью, сделавшими возможным его экономическое развитие. Купцы из Акраганта, как и их коллеги из Селинунта, Кротоны и Сибариса, стали американскими миллионерами своего времени, на которых греческие плутократы помельче взирали с тайной завистью и самоутешающим презрением; Новый Свет, по заверениям его предшественника, увлекался размахом и внешним великолепием, но не располагал ни вкусом, ни художническим мастерством. Акрагантский храм Зевса, бесспорно, стремился к размаху, ибо Полибий пишет, что он «не уступал ни одному греческому храму по величине и планировке» [614] Там же, IX, 27.
; мы не можем судить о его красоте непосредственно, так как его разрушили войны и землетрясения. Поколение спустя, в эпоху Перикла, Акрагант возводил строения поскромнее. Одно из них — храм Согласия — сохранилось почти целиком, а от храма Геры до нас дошла впечатляющая колоннада; этого в любом случае достаточно, чтобы показать, что греческий вкус не замыкался в Афинах и что даже коммерческий запад понял справедливость истины «размах не значит развитие». В Акраганте родился великий Эмпедокл; возможно, именно здесь, а не в кратере Этны нашел он свою смерть.
Интервал:
Закладка: