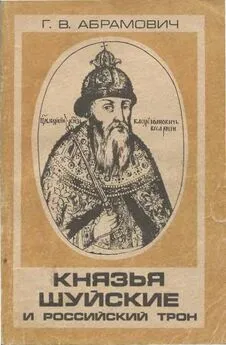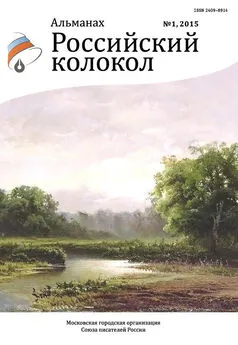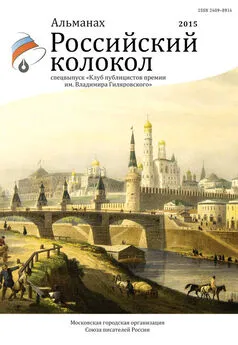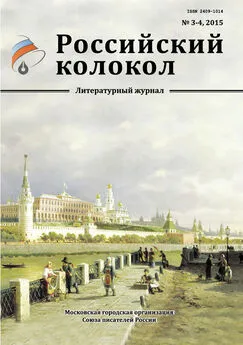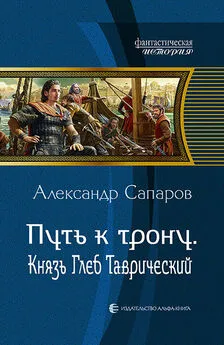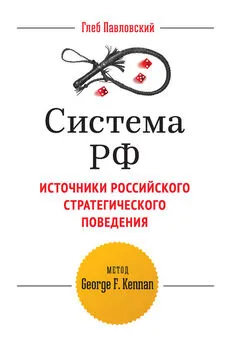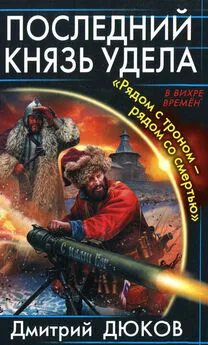Глеб Абрамович - Князья Шуйские и Российский трон
- Название:Князья Шуйские и Российский трон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ленинградского университета
- Год:1991
- Город:Ленинград
- ISBN:5-288-00605-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Абрамович - Князья Шуйские и Российский трон краткое содержание
Для историков и всех, интересующихся отечественной историей.
Князья Шуйские и Российский трон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И тако им многа лета жившим, мне же возрастом тела преспевающе, и не Восхотев под властию рабскою быти, и того для князя Ивана Васильевича Шуйского от себя отослал, а у себя есми велел быти боярину своему князю Ивану Федоровичу Бельскому. И князь Иван Шуйской приворотя к себе всех людей и к целованию приведе, пришел ратию к Москве, и боярина нашего князя Ивана Федоровича Бельского и иных бояр и дворян переимали советники его Кубанские и иные, до его приезду, и сослали на Белоозеро и убили, да и митрополита Иоасафа с великим бесчестием с митрополии согнаша. Тако же и князь Андрей Шуйской с своими единомысленники пришед к нам в избу в столовую, неистовым обычаем перед нами изымали боярина нашего Федора Семеновича Воронцова, ободрав его и позоровав, вынесли из избы да убити хотели. И мы посылали к ним митрополита Макария, да бояр своих Ивана, да Василия Григорьевичей Морозовых своим словом, чтоб его не убили и оне едва по нашему слову послали его на Кострому, а митрополита затеснили и манатью на нем с ысточники изодрали, а бояр в хребет толкали. От преставления матери нашия и до того времяни шесть лет и пол не престаша сия злая» [221] Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским (Из серии: Литературные памятники). Л., 1979. С. 27–29.
.
Как уже отмечалось, переписка Грозного с Курбским привлекала внимание историков и литературоведов на протяжении двух веков. Итоги дискуссии подведены в основном в трех работах: с позиций литературоведения — в большой статье академика Д. С. Лихачева «Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского (царь и государев изменник); историографической— в статье Я. С. Лурье «Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси»; [222] Там же. С. 183–213, 214–249.
с источниковедческих позиций в книге Р. Г. Скрынникова: «Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана» (Л., 1973). Последняя работа представляет собой полемику автора с американским историком Э. Кинаном. Но специального исследования, посвященного источниковедческому анализу переписки и, в частности, тех ее страниц, где говорится о периоде боярского правления, с привлечением всего комплекса источников, имеющихся в распоряжении историков, нам встречать не приходилось.
Попытаемся восполнить образовавшийся пробел. Начнем с того, что первое послание, в котором изложен интересующий нас материал, датировано 5 июля 1564 г., т. е. написано 21 год спустя после событий, описываемых Иваном Грозным, накануне введения опричнины. Немаловажное значение в анализе этого источника имеет и решение вопроса о том, какую цель преследовал автор послания, приплетая к обвинениям изменника Родины князя Андрея Курбского не только его родственников, но, по сути, все российское боярство и в особенности род князей Шуйских, не имевших никакого отношения к Курбскому и его измене. По этому вопросу в литературе высказано много различных точек зрения. Наиболее близки к истине, по нашему мнению, соображения одного из комментаторов переписки — Я. С. Лурье. Он считает, что послания к Курбскому предназначались не для одного Андрея Курбского, а были написаны для более широкого круга читателей. Исследователь справедливо обращает внимание на заголовок первого послания: «Благочестивого великого государя царя и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича послание во все его великой России государство против клятвопреступников, князя Курбского с товарищами, об их измене» [223] Переписка… С. 12, 221.
.
Почему же в этом послании Иван так много внимания уделяет князьям Шуйским? Думается, что, обличая и очерняя самый знатнейший и наиболее близкий к трону род русских князей, Грозный указывал на отсутствие у этих людей прав и возможностей на непосредственное управление государством, а также напоминал об их положении по отношению к помазаннику божию, для которого они не более, чем рабы, и их жизнью и смертью он волен распоряжаться так, как ему бог на душу положит. Целый ряд обвинений не имел серьезного значения и был результатом лишь мелькнувших в памяти и не имеющих государственного значения эпизодов. Но об этом речь впереди.
Первое и главное обвинение, из которого вытекали все остальные, состояло в том, что братья Васильевичи Шуйские самовольно навязались в опекуны Ивану IV. Это обвинение находится в полном противоречии с данными летописей. Так, в Софийской второй и в Царственной книгах сообщается, что в 1534 г., готовясь к смерти, Василий III призвал к себе в Думу для составления завещания князя Андрея Старицкого и бояр. «И нача князь великий думати с бояры, а бояр у него тогда бысть князь Василей Васильевич Шуйской, Михайло Юрьевич, Михайло Семенович Воронцов, и казначей Петр Иванович Головин, и дворецкой его Тверской Иван Юрьевич Шигона, и дьяков его Меншой Путятин, Федор Мишурин: и призва их к собе, и начат князь велики говорити о своем сыну о князе Иване, и о своем великом княжении, и о своей духовной грамоте, понеже бо сын его бе млад, токмо трех лет на четвертой, и как строитися царству после его. Тогда же князь велики прибави к собе в думу к духовной грамоте бояр своих князя Ивана Васильевича Шуйского, да Михаила Васильевича Тучкова, да князя Михаила Львовича Глинского» [224] ПСРЛ. Т. 6. С. 270.
.
Через два дня Василий снова «призва к себе бояр своих князя Василия и князя Ивана Васильсвичев Шуйских, и Михайла Воронцова, и Михайла Юрьевича, Михайла Тучкова, князя Михайла Глинского, Шигону, Петра Головина, дьяков своих Меншого Путятина, Федора Мишурина: и быша у него тогда бояре от третьего часа до седмаго, и приказав им о своем сыну великом князе Иване Васильевиче, и о устроении земском, и как быти и правити после его государьства, и поидоша от него бояре; а у него остася Михайло Юрьев, да князь Михайло Глинской, да Шигона, и быша у него до самые нощи, и приказав о своей великой княгине Елене, и како ей без него быти» [225] Там же. С. 272.
. Как видим, в совете, призванном решать дальнейшую судьбу государства, Шуйские занимали первые места.
Что же касается Елены, то о ней Василий говорил только с ее дядей Михаилом Глинским и дворецким Шигоной, видимо, по поводу ее личного поведения. Есть основания думать, что Василий не доверял Елене, подозревая, а может быть, зная, о ее связи с Иваном Овчиной.
Таким образом, летописные данные полностью расходятся с утверждением Грозного в его послании Курбскому о самозванном характере опекунства Василия и Ивана Шуйских. Позднее это осознал и сам Грозный, придя в себя после истерических излияний, наполнявших послание. Редактируя Царственную книгу, он оставил относящиеся к Шуйским сведения, в корне противоречившие его собственным жалобам в послании к Курбскому, без каких-либо поправок и примечаний. Иван Грозный понял и нелепость обвинения И. В. Шуйского в недопустимом поведении в присутствии малолетних царевичей в домашних условиях и не включил этого рассказа в сделанные им приписки к тексту летописи. Насколько слова Грозного в посланиях довлели над историками, можно судить по выводам, сделанным в работе советского историка Д. Н. Альшица, специально посвященной анализу приписок Грозного к летописному своду. Отметив, что сам Грозный при редактировании летописи отказался, а точнее — не счел нужным вспомнить о собственных обвинениях Шуйских в бестактном поведении, исследователь все же оценивает эту весьма сомнительную сценку, описанную Грозным в пылу литературного творчества, как очень яркий факт «прямого издевательства над маленьким великим князем Иваном и братом его Юрием и над памятью покойного Василия III» [226] Альшиц Д. Н. Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Кн. 23. М., 1947. С. 274–275.
.
Интервал:
Закладка: