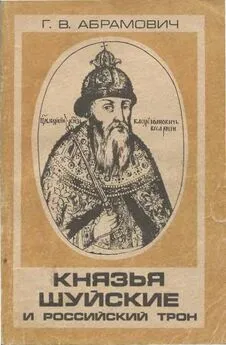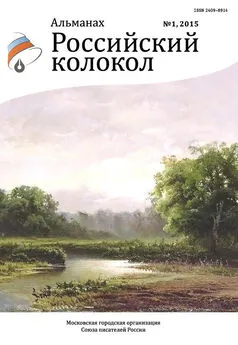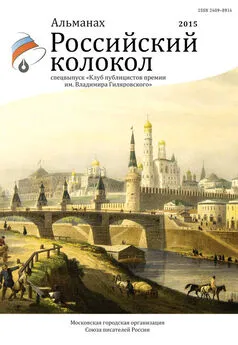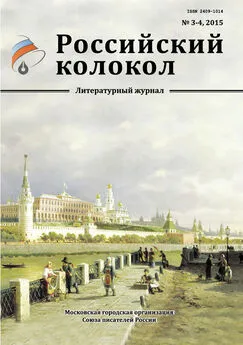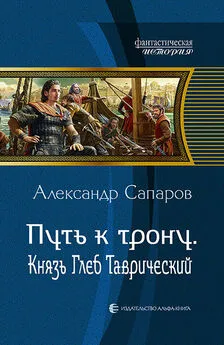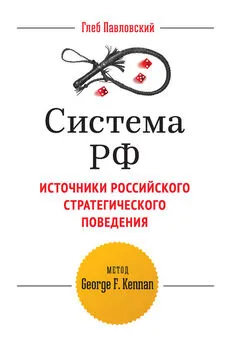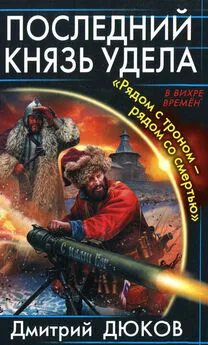Глеб Абрамович - Князья Шуйские и Российский трон
- Название:Князья Шуйские и Российский трон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ленинградского университета
- Год:1991
- Город:Ленинград
- ISBN:5-288-00605-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Абрамович - Князья Шуйские и Российский трон краткое содержание
Для историков и всех, интересующихся отечественной историей.
Князья Шуйские и Российский трон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Василий Васильевич умер в ноябре 1538 г., пол года не дожив до рождения дочери. На период его правления приходится окончание денежной реформы, начатой Еленой Глинской: в апреле-августе 1538 г. была произведена замена старых московских денег на новые, названные копейками [196] Янин В. Л. Хронология монетной реформы правительства Елены Глинской // Россия на путях централизации / Под ред. Д. С. Лихачева, В. T. Пашуто и др. М., 1982. С. 67–68.
. Вероятно, в годы его же правления личная казна Елены Глинской, состоящая, видимо, из немалой суммы, перешла в Большую казну (своего рода государственное казначейство). Несомненно, что с этим важнейшим финансовым мероприятием тесно связана и ликвидация такого пережитка удельной старины, как институт тиунов великой княгини, собиравших дань, идущую в ее личную казну. Насколько этот институт был выгоден и необходим родне великих княгинь, видно из того, что уже через год после женитьбы Ивана Грозного на Анастасии Романовой, под давлением бояр Романовых, институт восстановили [197] Каштанов С. М. Финансы средневековой России. М., 1988. С. 103.
.
После смерти Василия Васильевича его вдова княгиня Анастасия и дочь Марфа, впоследствии выданная замуж за виднейшего представителя литовского рода Гедиминовичей, князя Ивана Дмитриевича Бельского, пользовались до конца жизни всеми правами членов царской семьи. Так, когда Иван IV при выборе невесты отдал предпочтение Анастасии Романовой, то для бережения невесты до свадьбы к ней были приставлены: ее мать, Ульяна Романова, бабка царя Анна Глинская и Анастасия Шуйская [198] Тихомиров М. Н. Записки… С. 287.
.
После смерти старшего брата руководство политической жизнью государства перешло к Ивану Васильевичу, проявившему на этом посту способности крупного политического деятеля. Ни двоюродного брата Андрея, ни племянника Федора Скопина-Шуйского Иван Васильевич к руководству государством не допускал, а держал их на периферии — на постах наместников и воевод. Сам же он продолжал линию, направленную на дальнейшее укрепление Русского централизованного государства намеченную предшествующими правителями: выпускал и рассылал на места губные грамоты, укрепляющие позиции и права местного дворянства и крестьянства в борьбе с разбоями — страшным злом тех времен. В интересах поместного дворянства, главной социально-политической опоры центральной власти, Иван Васильевич продолжил большое поместное верстание, начатое в 1538 г. О его значении можно судить по следующим данным: челобитные, упоминаемые в грамотах по поместным делам, показывают, что в каждой помещичьей семье к 1538–1539 гг. появилось по 2–3, а иногда и по 4 сына, поспевших к службе, но не имевших для исправного несения ее достаточного земельного обеспечения.
По массовым данным Тверской половины Бежецкой пятины Новгородской земли, количество совладельцев в поместьях возросло там с 1501 по 1538 г. с 203 до 764 человек, т. е. более чем втрое. Насколько благоприятными для помещиков оказались результаты верстания, видно из того, что из девяти случаев обращения с просьбой о прирезке земли отказано было лишь в одном случае. В остальных прирезки составляли в среднем 79 % от прежней нормы. По всей Тверской половине Бежецкой пятины из общего числа 360 старых помещиков прирезки получили 154 человека, в результате чего размер их поместий увеличился в среднем с 17,5 до 21 обжи. В процессе переписи были юридически оформлены обмены частями поместий, что делалось в интересах превращения последних в компактные хозяйства, имевшие большое экономическое значение. Определились и с вновь распаханными помещиками землями, из которых часть осталась за помещиками; в тех случаях, когда роспаши превышали поместный оклад, то излишек отписывался в резерв великого князя [199] Абрамович Г. В. Поместная система и поместное хозяйство в России в последней четверти XV и в XVI в.: Автореф. докт. дис. Л., 1975. С. 22–23.
.
Нс менее интересные данные приводит тверская писцовая книга 1540 г. В ней отдельной рубрикой выделены земли, розданные помещикам. Из общей суммы этих земель в 22 515 четвертей или 11 257 десятин лишь 7738 четвертей было отдано четырнадцати крупным землевладельцам во главе с сыном Ивана Васильевича Шуйского Петром Ивановичем, только что начавшим несение государевой службы. А остальные 14 777 четвертей получили 114 помещиков, в среднем на душу по 129 четвертей или по 13 обеж. Самое крупное поместье в размере 43 обеж получили братья Посник и Яков Губины-Моклоковы, представители верхушки дьяческой бюрократии [200] Абрамович Г. В. Поместная политика в период боярского правления в России (1538–1543 гг.) // История СССР. 1979. № 4. С. 194.
. Сказанное дает все основания для критического отношения к оценке правления Шуйских как периода антидворянской реакции.
Деятельность Шуйских не ограничивалась лишь светскими интересами. Они проявляли заинтересованность и в делах церковных. 2 февраля 1539 г. был сведен с престола митрополит Даниил. Мы уже приводили мнение Герберштейна о «святителе», которого австрийский посол хорошо знал. По словам Герберштейна, это был великий лицемер, чревоугодник и стяжатель. А вот как характеризует митрополита летописец: «Того же лета, февраля в 2 день, Данил митрополит оставил митрополичество неволею, что учал ко всем людем быти немилосерд и жесток уморял у собя в тюрьмах и окованных своих людей до смерти, да и сребролюбие было великое» [201] Тихомиров М. Н. Записки… С. 285.
. На его место поставили игумена Троице-Сергиева монастыря Иоасафа Скрипицына.
Такова была деятельность братьев Васильевичей Шуйских, а, вернее, в основном Ивана Васильевича, в первый период их правления с апреля 1538 г. по июль 1540 г. А что же делали в эти годы Андрей Михайлович Шуйский и Федор Иванович Скопин-Шуйский? О деятельности последнего летописи молчат. Видимо, за ним не значилось никаких стоящих внимания дел. Но уж зато по поводу деятельности Андрея Михайловича летописи буквально пышут ненавистью. Вот как характеризует Псковская летопись его деятельность на посту псковского наместника: «А князь Андрей Михайлович Шуйской, а он был злодей; не судя его писах, но дела его зла на пригородех, на волостех, старые дела исцы наряжая, правя на людях ово сто рублей, ово двесте, ово триста, ово боле, а во Пскове мастеровыя люди все делали на него даром, а больший люди подаваша к нему с дары» [202] Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 230.
.
Враждебная Шуйским боярская группировка во главе с князьями Бельскими непрерывно искала повода для отстранения Шуйских от власти и, наконец, в июле 1540 г. им это удалось. Они сумели перетянуть на свою сторону митрополита Иоасафа, и по его ходатайству Иван IV приказал выпустить из заточения главного врага Шуйских — князя Ивана Федоровича Бельского. Великий князь не только выпустил, но «и опалу свою отдал, и гнев свой ему отложил, и очи свои ему дал видети. И о том възнегодовал князь Иван Васильевич Шуйской, на митрополита и на бояр учал гнев държати и к великому князю не ездити, ни с боляры съветовати о государьских делах, ни о земских, а на князя на Ивана на Бельского великое враждование имети и зло на него мыслити, и промеж бояр велик мятеж бысть» [203] ПСРЛ. T. 8, ч. 1. М., 1965. С. 132–133.
. Отстранившись от государственных дел, И. В. Шуйский совершил крупную ошибку. Пользуясь его отсутствием, Бельские смогли, наконец, провести в Думу своих сторонников (в члены Думы — князя Юрия Голицына-Булгакова, а в окольничьи — Ивана Хабарова [204] 3имин А. А. Состав Боярской Думы, в XV–XVI веках // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958. С. 56.
), чего безуспешно добивались с 1538 г.
Интервал:
Закладка: