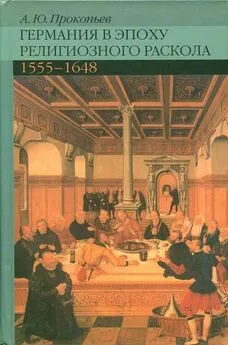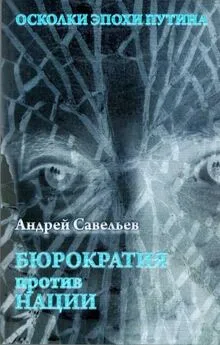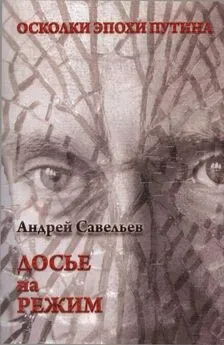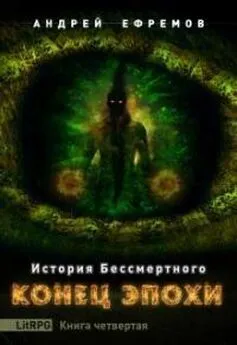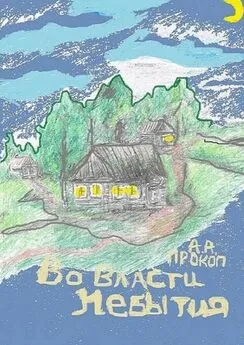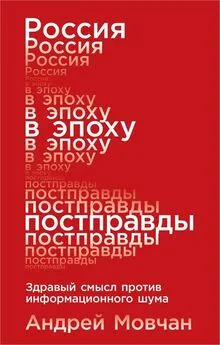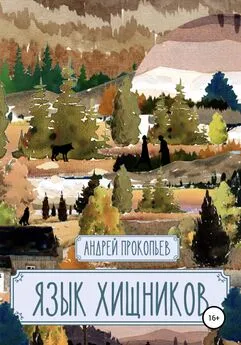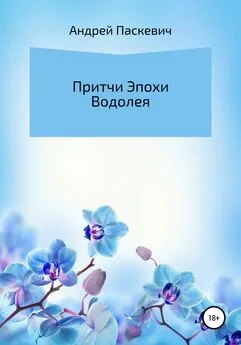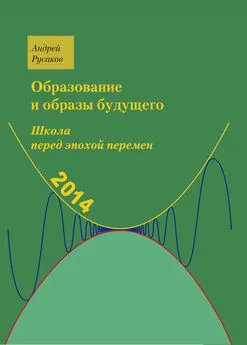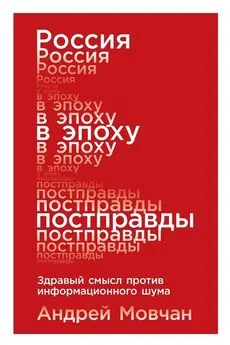Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648
- Название:Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-288-04779-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648 краткое содержание
Используя огромный фонд источников, автор создает масштабную панораму исторической эпохи. В центре внимания оказываются яркие представители отдельных сословий: императоры, имперские духовные и светские князья, низшее дворянство, горожане и крестьянство. Дается глубокий анализ формирования и развития сословного общества Германии под воздействием всеобъемлющих процессов конфессионализации, когда в условиях становления новых протестантских вероисповеданий, лютеранства и кальвинизма, укрепления обновленной католической церкви светская половина общества перестраивала свой привычный уклад жизни, одновременно влияя и на новые церковные институты.
Книга адресована специалистам и всем любителям немецкой и всеобщей истории и может служить пособием для студентов, избравших своей специальностью историю Германии и Европы.
Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В целом и для католической и для протестантской половины можно вполне констатировать одинаковую важность придворной службы . Социальный феномен двора именно как элитарного сословного учреждения формируется после Тридцатилетней войны. Дворянство окончательно вытесняет неаноблированный, бюргерский элемент из придворных структур. Имперско-княжеская военная и административная служба получила всеобщее распространение в дворянской среде. При этом не затихавшие после 1648 г. локальные конфликты с Францией и Портой создавали широкие возможности для военной карьеры. К концу XVII в. окончательно оформятся две основные модели дворянской службы: военная и придворно-административная. Первая обретет свои классические черты в Бранденбурге, вторая — в изысканной Вене, при барочном дворе Габсбургов. Религиозный и политический компромисс, восторжествовавший в Германии после 1648 г., содействовал проницаемости протестантских и католических дворянских фракций, усиливал интеграционные процессы, где много шансов в плане патронажа и протекции предоставлялось Габсбургам. Приобретение дворянами титулов имперских баронов или рыцарей из рук императора служило не только укреплению престижа, но и позволяло расширять служебный диапазон.
Экономическая основа дворянского благополучия — поместное хозяйство — при всем разрушительном смерче Тридцатилетней войны не была уничтожена и не претерпела решительных изменений. Необходимость скорейшего восстановления разрушенного войной вынуждала дворянские семьи еще активнее искать подспорья у территориальной власти и в то же время идти на компромиссы с крестьянскими подданными. Следствием выступала специфическая черта послевоенного хозяйственного уклада: он не столько реформировался, сколько тяготел к тем традиционным моделям, которые уже оформились в начале века. Сеньориальная и вотчинная система на западе и востоке эволюционировала преимущественно в уже заданных координатах. Наставления Вольфа Хельмгарда фон Хохберга в его знаменитом пособии по поместной экономии, изданном в 1680 г., лежали в преемственности уже устоявшейся линии, не формировали ее сколько-нибудь заметную альтернативу.
Немецкий город испытал много превратностей в годы войны. Некоторые процветающие в начале века общины были уничтожены ее огненным смерчем. Магдебург, дотла сожженный и потерявший почти всех своих жителей (30 тыс.) в 1631 г., может служить, пожалуй, самым скорбным примером. Однако он все же являл исключительный по драматизму случай. Многим городам удалось выйти из войны с меньшими потерями, а некоторые, как Франкфурт-на-Майне, Гамбург или Бремен, смогли даже оживить свою экономическую деятельность . Необходимость дифференцированного подхода здесь очевидна и в этом, вероятно, можно усмотреть позитивный результат исследования Г. 3. Штейнберга. Для послевоенного городского ландшафта характерной становилась все более тесная взаимосвязь правового статуса общины с ее экономическим потенциалом. Теперь лишь только самые мощные, наиболее благополучные города, как, например, Франкфурт-на-Майне или Гамбург, продолжали оберегать свое непосредственное имперское подданство и настаивать на нем. Пребывая в более выгодных экономических условиях, чем многие другие общины, они с успехом защищали свои привилегии как на всеимперских форумах рейхстага, так и перед соседней территориальной властью. Однако несравненно более многочисленное сообщество земских городов интегрировалось в местную сословную пирамиду и удовлетворялось покровительством княжеской власти. Стремление сохранить уцелевший хозяйственный потенциал и поскорей залечить нанесенные войной раны заметно укрепляло узы партнерских отношений между городами и князьями. Лишаясь многих внешнеэкономических контактов, возможностей для широкой межрегиональной торговли, для вкладывания капиталов, городские общины стремились в первую очередь оживить местный рынок, наладить полноценные хозяйственные связи в сравнительно узком пространстве. Следствием стала растущая заинтересованность в протекции со стороны территориальных династов. Так или иначе, многие городские общины уже спустя полвека после окончания войны приобрели хорошие экономические позиции. Берлин, оживленный протекционистскими мерами Гогенцоллернов и предприимчивостью французских диссидентов, являл один из самых ярких примеров роста. Дрезден, преобразившийся в своих роскошных барочных формах при первом курфюрсте-короле, или Штуттгарт, старательно опекаемый Вюртембергским Домом, можно также причислить коатому ряду.
В русле уже заданных предвоенным временем процессов менялось экономическое лидерство. Захват шведами Балтийского побережья исключал возможность самостоятельной ориентации восточной группы ганзейских городов, о чем уже говорилось выше. Обрести благополучие можно было лишь под протекцией самой шведской короны — примеры Штральзунда и Висмара здесь были самыми очевидными. Ганза прекратила свое существование в качестве живого организма. Лишь западные порты, Бремен и Гамбург, могли еще питать надежды на радужное будущее. Напротив, резко возросло значение внутриимперских центров, обслуживающих дальние и ближние регионы. Франкфурт-на-Майне и Кёльн смогли окончательно закрепить за собой пальму экономического лидерства в транзитной торговле, биржевом деле и ярмарках.
Немецкое бюргерство в целом удовлетворилось уже занятыми в начале века позициями. Военные потери в сочетании с мощным наплывом сельского населения, беженцев содействовали обновлению социального состава общин во многих городах. Бюргерский слой на низовом уровне ощутил прилив свежих сил, вызванный сельской инфляцией и перемещениями. Но обновление следовало параллельно консервации старой элиты, стремившейся сохранить лидерство в руководстве гильдий, цехов и соответственно городского совета. Консерватизм, устойчивость верхнего этажа в здании городской общины очевидно характеризовали профиль немецкого города после 1648 г. В то же время статус неаноблированного горожанина, пусть и из патрицианской среды, при дворе или в княжеской администрации окончательно утратил свою престижность, явленную во времена Реформации. Элита города теперь стремилась не столько закрепить свою социальную автономность, сколько стать вровень с дворянством, прыгнуть в ряды дворянского сословия. Частая интитуляция в «пфальцграфское» достоинство, организованная императором и позволявшая возводить в дворянство представителей академической профессуры или административных советников, хорошо иллюстрировала процесс. Ценности дворянского мира окончательно торжествовали над бюргерскими традициями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: