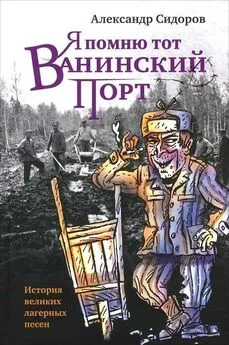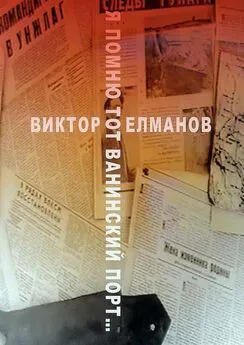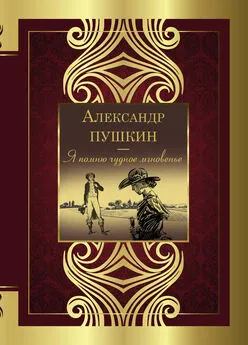Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Название:Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-192-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен краткое содержание
Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начнём с хронологии. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» относит начало воровской резни к 1949 году: «“Сучья война” разгорелась примерно с 1949 года (не считая отдельных постоянных случаев резни между “ворами” и “суками”). В 1951, 1952 годах она бушевала». Любопытный штрих: война, по Солженицыну, разгорелась в 1949 году, но «сучья масть» существовала до этого, и постоянная резня по лагерям уже шла. В чём же её отличие от «войны»? Ответа нет.
Варлам Шаламов связывает начало войны с указами «четыре-шесть» и датирует её возникновение началом 1948 года. Михаил Дёмин утверждает, что уже к концу осени 1947 года «сучья война» полыхала по всей Колыме:
«— Насчёт сучни… Её здесь, оказывается, навалом. В каждом управлении половина лагпунктов — сучьи.
— Быть не может…
— Всё точно, брат, — сказал со вздохом Леший, — всё точно. На Сусумане — сучня, на Коркодоне тоже. И в Марково, и в Анюйске. И по всей главной трассе… Кругом ихние кодлы!.. Учтите, здесь на Карпунке тоже имеются суки. Недавно — мне рассказывали — такая мясня была, ой-ой! Пятнадцать трупов за одну ночь настряпали».
Датировка Дёмина наиболее близка к реальной. Начало серьёзных столкновений между блатными и «ссученными» точнее всего обозначить именно концом 1947 года. Сомнение вызывают только утверждения о том, что к концу 1947 года целые лагпункты на Колыме были полностью «сучьими». За полгода сделать это невозможно. Зэков сначала надо доставить по железной дороге из Центральной России на Дальний Восток, затем — пароходами в Магадан, а уж из «столицы Колымского края» разбросать по лагерям.
Для справки. Лагерный пункт — далеко не самая крупная единица в ГУЛАГе. Головная организация (разумеется, помимо московского Управления) — Управление лагерей, объединяющее в себе целый лагерный комплекс (Берлаг, Озерлаг, Карлаг, Кейтолаг и пр.). В состав Управления (Улага) входили единицы помельче — лагерные отделения, состоявшие из нескольких десятков бараков (редко более тридцати) с арестантским населением от нескольких сотен до пяти тысяч заключённых. Ещё ниже — лагерный пункт: филиал лаготделения, созданный на отдалённом рабочем участке (чтобы сократить время перехода из отделения к рабочему месту и число конвоиров). Существовали также голпы (главные лагпункты, которые управляли несколькими им подобными единицами) и олпы (отдельные лагпункты, чаще всего подчинённые непосредственно Управлению лагерей). Филиалами лагерных пунктов, в свою очередь, были командировки — группы или экспедиции зэков и «вольных» в глухих местах (особенно при геологических разработках); совсем уж незначительными считались подкомандировки, выделяемые из командировок. Захватить «половину лагпунктов» новички-«суки» попросту не успели бы: пока придут этапы, пока пройдёт карантин, пока начальство разберётся, что к чему, распределит пополнение… К осени 1947 года под влияние «сук» половина лагпунктов попасть физически не могла.
Теперь о названии «сучья война». Почему «сучья»? Такое неблагозвучное название она получила потому, что отступники от «воровского закона» на уголовном жаргоне назывались «ссученными», «суками». В босяцком жаргоне эти понятия сохранились ещё со времён царской каторги. Вот что пишет политкаторжанин Пётр Якубович в записках 1895–1898 годов: «Есть два только бранных слова в арестантском словаре, нередко бывающие причиной драк и даже убийств в тюрьмах: одно из них (сука) обозначает шпиона, другое, неудобно произносимое, — мужчину, который берёт на себя роль женщины».
Самым грязным и унизительным в арестантской среде того времени считалось обращение в женском роде. Арестант обязан был смыть такое оскорбление кровью. «Суками», помимо шпионов, называли также сотрудников мест лишения свободы — надзирателей, конвойных… Поэтому назвать «сукой» арестанта значило ещё и поставить его в один ряд с ненавистным начальством. Администрация по отношению к себе считала подобное определение тоже унизительным. П. Фабричный в воспоминаниях о царской каторге пишет: «Однажды старший надзиратель Александровской тюрьмы Токарев говорил: “Назвал бы меня “сукин сын”, “мерзавец”, но не “сукой”, ведь знаешь, что я мог бы застрелить тебя тут же”». Заметим: «сукин сын» — вполне терпимо, но за «суку» и прибить можно! Тонкое лингвистическое различие…
Слово «ссучиться» в значении «изменить» зафиксировал автор «Объяснения жаргонных слов» Борис Глубоковский в 1926 году, отбывая наказание на Соловках. Варлам Шаламов замечает: «Спокон веку в блатном мире “сукой” назывался изменник воровскому делу, вор, передавшийся на сторону уголовного розыска. В “сучьей” войне дело шло о другом — о новом воровском законе. Всё же за рыцарями нового ордена укрепилось оскорбительное название “сук”». Но ведь новый закон являлся как раз отступничеством от старого, отрицал его важнейшие постулаты! И «суки» именно становились под крыло лагерного начальства! Так что они полностью соответствовали своему оскорбительному названию. При этом сами отступники сумели нивелировать его унизительный смысл. В беседах со мною о «сучьей войне» старые лагерники охотнее употребляли вместо слова «суки» слово «бляди». Причём с особым «жиганским» акцентом.
— Билядзи или суки — одно и то же, — толковал мне Федя Седой. — Просто воры суку чаще «билядзь» называли.
— Почему?
— Ну, понимаешь, «суками» суки и сами себя звали, это вроде как обычное название «масти». Даже так гордо говорили — «Я — честный сука!» Получается и не позорно, а вроде как Герой Советского Союза… Ну, а для блатных они — гадское племя, бляди. Блядями жили, блядями и подыхали…
На протяжении своих рассказов «каторжане» так и называли воров, предавших «идею»: не «суки», а «бляди». Ещё одно тонкое стилистическое отличие…
Но это — лингвистика. А вот каким образом указ «четыре шестых» способствовал разжиганию «сучьей войны»? Ответ на этот вопрос касается непосредственно песни «Этап на Север», безысходно-суровых глаз, загубленной жиганской души…
Мы уже упоминали в очерке о песне «Бывший урка, Родины солдат», что одной из причин резни стало возвращение фронтовых уркаганов в лагеря, где собратья отбирали у них титул воров и списывали в «мужицкую масть». Но ведь блатные вояки попадали за «колючку» и до печально знаменитых указов — начиная с 1945 года, за насилия и мародёрство на оккупированных территориях и уже на родной земле. Почему же «сучья война» вспыхнула только в 1947–1948 годах?
Ну, во-первых, и до указов не обходилось без мелких и крупных стычек, кровавых разборок среди «вояк» и «честных воров». Разброд и шатания среди блатных возникли даже гораздо раньше. Бывший уголовник, писатель Ахто Леви, в романе о воровском законе «Мор» подчёркивает, что корни «сучьего» движения следует искать в довоенном ГУЛАГе. По его мнению, «суки» существовали уже тогда, но «они назывались не везде ещё так и их ещё не резали».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: