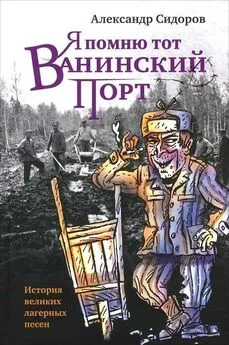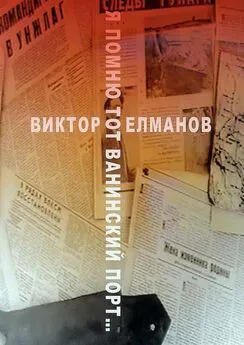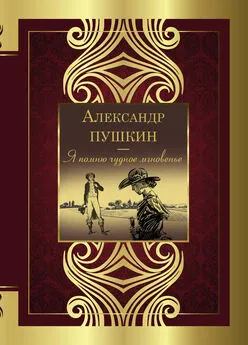Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Название:Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-192-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен краткое содержание
Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть заводы ремонтные, которые давно перестали и быть ремонтными, а стали механическими…
Есть заводы по производству аммонита, электролампочек и т. д., и т. д. Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы, своя жизнь.
Словом, на Колыме важна не только “общая” удача — попасть на хорошую работу, в придурки, или получить “кант”, но и попасть в то или иное из десятков управлений Колымы, где в каждом — разная особая жизнь».
Но ни один из сидельцев даже на самом «тёплом» местечке не мог чувствовать себя в безопасности: всегда перед ним маячила жуткая перспектива попасть «на золото». Это было самой страшной угрозой во всех управлениях. Так что выражение «золотые деньки» на Колыме пахло смертью…
«Чудная планета»: от Геродота до Берзина
Но ежели Колымский край столь суров, отчего в песне Колыма названа «чудной планетой»? Прежде всего, это — аллюзия на уже известную нам лагерную частушку:
Колыма, Колыма,
Чудная планета:
Девять месяцев зима,
Остальное — лето!
Как справедливо замечают Джекобсоны в своём исследовании песенного фольклора ГУЛАГа: «Эта частушка стала одной из популярных в лагерях, т. к. заключённые могли легко изменить место (Воркута, Ныроблаг, Усольлаг и т. д.) и количество зимних месяцев от девяти до двенадцати». Например, в романе Екатерины Матвеевой «История одной зэчки» одна из героинь говорит: «Там, подрузя, “Воркута — новая планета, двенадцать месяцев зима, остальное лето”». Но самое популярное место — всё-таки Колыма. Отсюда исследователи делают вывод, что поговорка родилась именно здесь.
Нашёлся даже претендент на авторство — народный поэт Калмыцкой АССР Константин Эрендженов, который сам 20 лет отбыл на Колыме в качестве заключённого. Как свидетельствуют те же Джекобсоны со слов американца Х. Э. Гафта, ему рассказал о своём авторстве сам народный поэт: «Встреча Гафта и Эрендженова состоялась на Всесоюзной конференции МВД СССР по проблемам перевоспитания правонарушителей в г. Харькове в ноябре 1981 года». Позднее Эрендженов активно распространял эту версию в расширенном варианте: якобы четверостишие написано им на калмыцком языке, а перевёл частушку Алексей Баталин, ленинградский преподаватель и такой же зэк. С ним поэт действительно отбывал срок. Правда, неясно, зачем Баталину надо было перекладывать четверостишие на русский язык, если сам Эрендженов прекрасно говорил и сочинял по-русски: учился он в Саратовском университете.
Но суть не в этом. Эрендженов придумал калмыцкую припевку о колымской погоде или кто-то другой, однако следует заметить, что сама по себе она далеко не оригинальна. Так, ещё древнегреческий историк Геродот Галикарнасский (484–425 гг. до н. э.), описывая земли севернее реки Танаис, рассказывал: «Холода продолжаются в тех странах сплошь восемь месяцев, да и остальные четыре месяца не тепло». Это определение, судя по всему, в Греции стало крылатым выражением, и даже в 200 году нашей эры древнегреческий ритор и грамматик Афиней в своём сочинении «Пир мудрецов» замечал об одном из фракийских городов: «В Эносе стоит восемь месяцев мороз и четыре стужа».
Трудно сказать, разошлась ли эта шутка по миру, однако до России она точно дошла — причём сначала не до Колымы, а до Санкт-Петербурга. Здесь существовали как минимум с XIX века язвительные сентенции: «В Петербурге три месяца зима, остальное — осень», «В Петербурге восемь месяцев зима, остальное — дурная погода». Можно вспомнить и поэму Николая Некрасова «Русские женщины», где во второй части иркутский губернатор отговаривает княгиню Трубецкую от поездки к мужу-декабристу:
Бесплодна наша сторона,
А та — ещё бедней,
Короче нашей там весна,
Зима — ещё длинней.
Да-с, восемь месяцев зима
Там — знаете ли вы?
Там люди редки без клейма,
И те душой черствы;
На воле рыскают кругом
Там только варнаки;
Ужасен там тюремный дом,
Глубоки рудники…
Итак, восьмимесячная зима по отношению к русскому Северо-Востоку была вполне обычным представлением. Впрочем, колымская поговорка стоит ближе к природе именно этого края, поскольку чудовищные холода здесь действительно сменяются довольно жарким коротким летом. Поэтому, даже указывая на явные источники её возникновения, мы не можем отказать ей в оригинальности.
Многие исследователи склонны относить рождение колымской частушки к 30-м годам прошлого века, когда с началом освоения Колымского края советская пропаганда активно стала продвигать образ Колымы чуть ли не как земли обетованной. Граждан призывали срочно заселять это «райское место», убеждая, что русский Северо-Восток отличается прекрасным климатом. Первый директор Дальстроя Эдуард Берзин в очерке «Колыма», размещённом в журнале для заключённых Дмитлага «На штурм трассы», так описывал здешние условия: «У многих создалось мнение, что Колыма — это край мрачной, угрюмой природы и нездорового климата. Неверно! Мы ещё не имеем ни одного факта, который хотя бы в малейшей степени подтвердил неблагоприятное влияние колымского климата на организм. Что касается здешней природы, то если бы её знали туристы зимой или в лучшие летние месяцы — август, сентябрь, — наш край превратился бы в серьёзного конкурента югу… А сухие зимние морозы, хотя и достигают порой 70 градусов, переносятся сравнительно легко и не могут служить препятствием для заселения края, для развития промышленности и сельского хозяйства».
Не то чтобы Берзин совсем уж врал… но сильно приукрашивал. Колымский зэк Валерий Бронштейн пишет о «лучших летних месяцах» несколько иначе: «Чему я здесь ещё удивился, то это колымской летней жаре. Почему-то вспомнился куплет известной колымской песни: “Колыма, Колыма, чудная планета, двенадцать месяцев зима, остальное — лето”, и поэтому ожидал, раз лето очень короткое, то должно быть и холодным, но оно оказалось очень жарким и душным. Всё это усугублялось необходимостью ходить в кирзовых сапогах, толстой рабочей куртке и накомарнике, надетом на шляпу, лучше всего с большими полями, так как мириады комаров набрасывались на тебя в тайге, пытаясь укусить даже через швы на сапогах. Они набивались в рот при сильном вздохе или еде, и не давали спать в палатке. В середине августа к комариному кошмару прибавлялся ещё и гнус, который держался до первых ночных заморозков в сентябре». То же вспоминает и Екатерина Кухарская: «Ходили мы в самодельных шароварах из мешковины… для защиты от свирепых оводов, в накомарниках с туго затянутыми тесёмками. Комары висели над нами тучей, назойливо звенели, пробивали кофты, присасывались через малейшую щёлочку в одежде».
Исчерпывающую характеристику колымской зимы и её влияния на лагерников даёт Иван Джуха: «Это, конечно, преувеличение, что зима на Колыме длится 12 месяцев. Температуры ниже нуля устойчиво держатся здесь “всего” восемь месяцев: с октября по май… Страшны были голод и непосильная работа. Но губительнее всего они действовали вкупе с морозом. Именно он мучил сильнее всего и быстрее всего помогал заключённым-забойщикам “дойти до социализма”. При температуре минус пятьдесят градусов заключённых на работу не должны были выводить, а эти дни засчитывать как отработанные (т. е. актировать). В действительности актировали, в 1938 году, только при морозе 55 градусов… Для других лагерей до 1936 года пределом признавалось минус 35 градусов, а с 1936-го — минус 40».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: