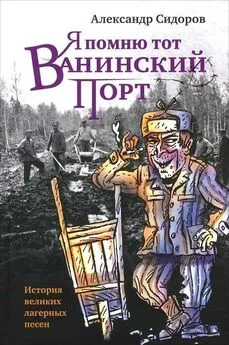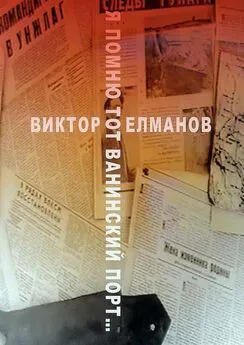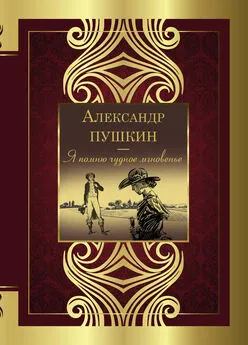Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Название:Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-192-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен краткое содержание
Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ширяев прямо указывает, что Емельянов попал на Соловки по громкому «делу фокстротистов» 1927–1928 годов. Молодые москвичи «из средней московской интеллигенции» в период НЭПа стали собираться на частных квартирах, устраивая вечеринки и танцуя входивший в моду фокстрот. Власть сочла это попытками «заговора», хотя практически все танцоры были абсолютно аполитичны. Под эту молотилку и попал «поэт Б. Емельянов, блестящий версификатор, выступавший в московских нэпических кабаре с мгновенными экспромтами на заданные публикой темы» (как его характеризует автор «Неугасимой лампады»).
То есть в реальном существовании соловчанина Бориса Емельянова сомневаться не приходится. А вот в том, что он сочинил лагерную песню «Не печалься, любимая», сомнения есть. Вернее, даже не сомнения: нет ни малейших свидетельств его сопричастности к созданию «Спецэтапа» — исключая неясно на чём основанное упоминание в «Песнях узников». Любопытно, что Емельянову приписывают время от времени и авторство других известных лагерных песен — например, «Угль воркутинских шахт».
И вот тут мы должны вернуться к фронтовому художнику Георгию Храпаку. Мы оставили его в Бухаресте, где Храпак передал рукопись стихотворения Петру Лещенко. Художник обещал повторно навестить певца и показать свои фронтовые зарисовки, а Лещенко хотел помочь молодому таланту организовать выставку работ в Бухаресте. К сожалению, больше они не встретились. Хотя, как вспоминала вдова Петра Константиновича, певец несколько лет пытался найти Георгия Храпака и поблагодарить за подаренную песню. Однако поиски оказались безрезультатными.
И не случайно. В послевоенные годы судьба художника складывалась непросто. Сначала всё шло гладко. В 1946 году он вступил в московский творческий союз (МОСХ), писал картины оживлённых улиц и тихих переулков, памятников древнего зодчества, современной столичной архитектуры. Но в 1948 году Георгия Храпака арестовали и бросили в лагеря. Неясно, за что художник был осуждён и где отбывал срок. Даже нельзя точно определить, сколько лет ему отмерило сталинское правосудие. Известно лишь, что на свободу он вышел в 1953 году, после смерти Сталина. Но, скорее всего, это случилось в результате «бериевской» амнистии, а не по окончании срока. Некоторые предполагают, что арест Храпака был связан как раз с тем, что он являлся автором песни «Я тоскую по Родине», ставшей чуть ли не гимном русских эмигрантов (хотя сам Пётр Лещенко и его жена оказались в заключении значительно позже Храпака). Так, может быть, попав в ГУЛАГ, автор «эмигрантского танго» создал новый текст — уже на основе арестантского опыта? Суть ведь одна: письмо любимой с просьбой не забывать и дождаться…
На этот счёт есть большие сомнения. Вспомним, что первоначально стихотворение Храпака отличалось косноязычием. Да и окончательный текст песни не блещет оригинальностью и лишён высоких художественных достоинств, не говоря уже о нескладных рифмах: «земле — обо мне», «поля — глаза» рядом с совершенно тривиальными: «поля — тополя», «дожди — жди». Разумеется, затасканные рифмы порою использовали и талантливые поэты; «жди — дожди» мы встречаем у Константина Симонова в стихотворении «Жди меня». Простота изложения сама по себе не является слабостью, зачастую как раз напротив. Равно как и стихотворение, откровенно слабое с художественной точки зрения, способно стать пронзительной песней. Как случилось и с танго «Я тоскую по Родине». Но вот «Не печалься, любимая» написано автором совершенно другого уровня — талантливым профессиональным поэтом. Потрясающая точность деталей, умение лаконичными, даже скупыми средствами передать гамму чувств, переживаний, внутреннее напряжение каждой строки — всё говорит о том, что стихи созданы человеком, обладавшим высокой культурой слова. Это стихотворение стоит на несколько порядков выше незамысловатых виршей Храпака.
Но вот кто он, этот таинственный сочинитель, — пока покрыто тайной.
«Здесь на каждом вагоне замок»
А теперь обратимся к тексту лагерной песни. Некоторые определяют её жанр не как танго (в отличие от творения Ипсиланти — Храпака), а как романс. Что вполне естественно, поскольку как-то не вяжется танго с арестантским бытом. Ну, да как ни назови, суть от этого не меняется.
Итак, речь идёт о спецэтапе заключённых, на что указывается в первых же строках. Вот и начнём с того, что такое спецэтап и чем он отличается от обычного этапа. В дореволюционной России этапом назывался пункт для ночного или дневного отдыха партий арестантов и войсковых команд во время их передвижения пешком по дорогам. Расстояние между этапами было от 15 до 25 вёрст. На каждом этапе арестанты (мужчины и женщины) и конвой размещались в отдельном здании с особыми помещениями. Позднее, с развитием сети железных дорог, подобные этапы отошли в прошлое. В Советской России так стали называть принудительную транспортировку осуждённых, подследственных, ссыльных, их маршрут следования к пункту назначения либо же партию транспортируемых. Чаще всего это происходит железнодорожным путём (реже — автотранспортом или авиацией); отсюда жаргонное название арестанта — «пассажир».
Этапирование происходит по определённому графику. В некоторых случаях (срочность, особая опасность арестанта, целевая необходимость доставки отдельного этапа в конкретное место) заключённые могут транспортироваться вне графика или даже поодиночке (так из Владикавказа доставляли в Ростов-на-Дону полковника Юрия Буданова, обвинённого в убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой). Такие способы доставки и называются спецэтапом. Именно специальными этапами заключённых доставляли в северные лагеря, которые занимались строительством или добычей полезных ископаемых. Количество этапников определялось заявками, на основании которых и формировались составы. Для этапов подобного рода нельзя было составить чёткий график: всё зависело от «естественной убыли» контингента на местах, незапланированного увеличения объёмов работ и т. д. Обычные же этапы отправлялись в «стабильные» лагеря, где существовал чёткий график освобождения заключённых, а значит, можно было планировать строго обозначенные объёмы пополнения контингента.
В связи с этим возникает и другой вопрос: в каких вагонах перевозят заключённых, о которых идёт речь в песне? Ведь ГУЛАГ транспортировал своих подопечных в двух типах вагонов: «столыпинских» и «телячьих».
«Столыпинский вагон» назван по имени Петра Аркадьевича Столыпина, который, будучи саратовским губернатором, в 1905 году жёстко и эффективно подавил крестьянские и городские волнения. Это настолько впечатлило Николая II, что в апреле 1906 года он направил Столыпину телеграмму, предложив ему стать министром внутренних дел России. А 8 июля того же года последовал Высочайший указ, согласно которому 44-летний Столыпин стал ещё и премьер-министром, совместив два поста. В рамках предложенной новым премьером аграрной реформы важная роль отводилась интенсивному заселению крестьянами восточной части империи и введению в сельскохозяйственный оборот пустующих земель. В результате реформы на восток переселилось около трёх миллионов человек. Именно для переселенцев и были созданы вагоны, называемые по сию пору «столыпинскими» или попросту «Столыпиными» (по одним сведениям, они появились в 1908 году, по другим — в 1910-м). Вагоны эти являлись модификацией пассажирских — с той разницей, что часть пространства с торцов была выгорожена под перевозку сельхозинвентаря и скота. И советский, и современный вагонзак имеют мало общего с реальным «столыпинским» типом вагона. Разумеется, никаких решёток и конвоя вагоны для переселенцев не предусматривали: в них ехали вольные люди. Для перевозки заключённых использовались и используются переделанные купейные вагоны, где купе оборудованы под камеры. До четырёх купе отводится конвойной службе, а далее следуют купе-камеры — большие и малые. Количество варьируется: например, пять больших (12–16 человек) и три трёхместные — «тройники» (куда можно впихнуть до шести «пассажиров»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: