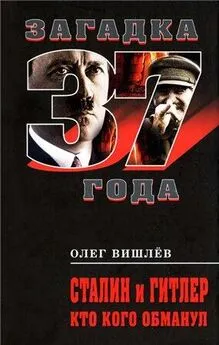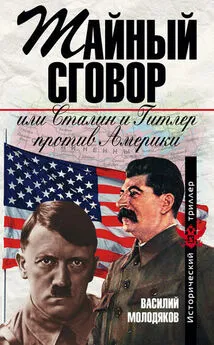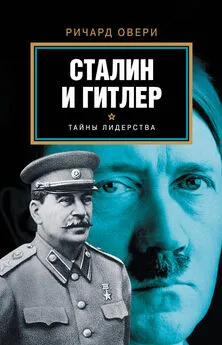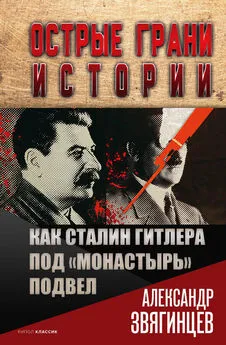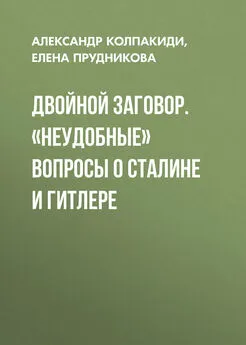Александр Колпакиди - Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями]
- Название:Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:2-224-00715-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Колпакиди - Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями] краткое содержание
Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А поскольку практически все интересовались не той историей, которая была, а той, которая, по их мнению, должна была быть, а мнения у всех были разные, то в результате сия наука совершенно развоплотилась. На исторической дороге образовалась огромная дыра, прикрытая раскрашенной бумажкой, на которой всяк рисует что хочет.
Все вышеперечисленные мифы, породившие, кроме того, множество «дочерних легенд», совершенно исказили облик времени в представлении людей. Поэтому любая попытка обсуждать какие-либо темы, имеющие отношение к нашей довоенной истории, заранее обречена на провал. Ибо любые реальные события, будучи вставлены в мифологическое пространство, теряют свое подлинное значение, связь и смысл. Что толку обсуждать отдельные факты, когда мы не знаем, что, собственно, вообще происходило. Когда простой человек, не обремененный излишними знаниями, считает, что коллективизация, например, произошла из-за злого умысла Сталина, — это печально. Но когда серьезный историк объясняет ее тем, что «так решил Пленум», это пугает… Оттого-то мы столько глав в этой книге уделили не собственно заговору, а времени, когда все это происходило. Перед тем как начинать действие драмы, давайте уделим внимание декорациям…
И все-таки как рождаются мифы? Мы думаем, что главная ложь курса «История КПСС» и ее дочерних историй — не о победоносной революции, не о роли партии, даже не о репрессиях. Главная ложь — это ложь о людях. Ибо, размышляя о том времени, невольно представляют людей 20-годов вдохновенными борцами без страха и упрека. А людей 30-х годов — законопослушными обывателями, точной копией нас, избалованных пятьюдесятью годами жизни без войны, не знавших холода и голода. Превращение разнузданного, бросившего фронт солдатика в борца, а борца в обывателя — это еще одна загадка, вроде превращения свинца в золото. Интересно, что играет роль философского камня?
А ведь это было не так. И Сталина мучил тот же вопрос, что за пять тысяч лет до того терзал Моисея: что делать с доставшимся ему народом?
В 1922 году «горячая» война, длившаяся восемь лет, подошла к своему концу. Десятки исследований и романов посвящены «вьетнамскому», «афганскому» и прочим синдромам. Какой шум в свое время наделали романы Ремарка! А если представить себе подобный синдром, только на порядок более жестокий, потому что страшнее и бессмысленней гражданской войны ничего быть не может, синдром, рядом с жертвами которого ремарковские герои — юные гимназистики… и поразил он не несколько десятков тысяч солдатиков «ограниченного контингента», а всю страну, люди которой три года убивали других людей на «ремарковской» войне, а потом столько же соотечественников вообще неизвестно во имя чего.
Сейчас любят называть революцию 1917 года переворотом, забывая о том, что за свержением царя, развалом фронта и собственно переворотом последовал даже не бунт, как известно, бессмысленный и беспощадный, а столь же беспощадная, но отнюдь не бессмысленная русская смута. Смута развращала всех, но в первую очередь она калечила молодых, прививая им свою кровавую мораль. Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, а в тридцать не мог спать по ночам. Но он человек чуткий, добрый и с правилами. А сколько было таких, которые и во время войны, и после нее прекрасно спали?
Война сама по себе вещь жестокая. Но гражданская… За каинов грех людей постигает особое озверение. Так, в начале XVII века, в Смутное время, среди войск самозванца никого не было хуже русских. И поляки, и шведы были просто завоевателями, охочими до баб и барахла, а наши россияне сравнивали взятые деревни с землей, не оставив «ни людины, ни скотины». Три века ничего не изменили.
О гражданской войне написано много книг более или менее правдивых. Иногда между ними, по чьему-то недосмотру, проскальзывают и сугубо натуралистические описания. Какой головотяп из цензурного ведомства позволил тиражировать, например, «Железный поток» Серафимовича? Любой идеолог должен был двадцать раз запретить это батальное полотно! Хотя бы за то, что между делом проскальзывают такие вот описания:
«— У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зарак похваталы своих афвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывелы на пристань, привязалы каменюки до шеи так сталы спихивать с пристани в море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ыня та чиста, як слеза — ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг, дрыг, як раки хвостом.
Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы…»
«Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали — нет его. Убежал. Тогда стали кричать:
— Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!
Атаман не вылез.
Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:
— Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат як твоя дочка, трехлетка… В щебень закопалы там, у горах, — та я ж не кричав.
Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери».
Вообще эту книгу стоит прочитать. Но это к слову. Так что же вы думаете, неужели этот, что с жадным любопытством наблюдал агонию умирающих соотечественников, или тот, что рубил детишек, — они после войны так вот просто вернутся, заживут своим домом, примутся за честный труд, как будто ничего и не было? Те, что в озверении били шашками своих, русских, или эти, спокойные, которым убить человека, что муху прихлопнуть, после войны придут, обнимут жену, поправят крышу, и словно ничего не было? И отцы, братья, сыновья офицеров побратаются с их убийцами? И родные погубленных детишек ни на кого зла не затаят?
За годы войны население России в массе своей озверело, одичало, отвыкло работать, зато накрепко привыкло к тому, что лучший способ заиметь кусок хлеба — отнять его, лучший арбитр всех и всяческих споров — кулак, а еще лучше — товарищ маузер. Бациллоносителями подобных привычек были отпущенные по домам солдаты всех армий. «Женка пишет, купец наш до того обижает, просто жить невозможно. Я так решил: мы за себя не заступники были, с нами, бывало, что хошь, то и делай. А теперь повыучились. Я каждый день под смертью хожу, да чтобы моей бабе крупы не давали, да на грех… Нет, я так решил, вернусь и нож Онуфрию в брюхо…» Это из солдатского письма времен первой мировой, а впереди еще гражданская…
К концу гражданской войны численность только Красной Армии составляла пять с половиной миллионов человек. Из них после демобилизации осталось 560 тысяч, остальные отправились по домам. Прибавьте сюда оставшихся в стране солдат рассыпавшейся белой армии, прибавьте красных партизан и подпольщиков, прибавьте разбежавшиеся по домам воинства всяких «батек» и «марусь», и все поголовно носители «гражданского синдрома». Немногие покаялись, большинство давно утратило это чувство. От работы эти люди тоже отвыкли: работать тягостно и скучно, не то что носиться по стране на лихом коне, грабить, убивать и насиловать. Помните рассказ Алексея Толстого «Гадюка»? Таких были миллионы во взбаламученной, умытой кровью России — непригодных к мирной жизни, не находящих себя в ней и готовых при первом же посягательстве на их интересы вскинуться на дыбы и достать заботливо припрятанные винтовки. На Западе для молодежи, ушедшей на войну, придумали даже специальный термин — «потерянное поколение». А как назовем то, что было у нас, — «потерянный народ»? Не зря именно в то время вырвался у Сталина известный афоризм, а по сути, крик души: «Кадры решают все!» Ну что, скажите, делать с таким народом, по какой пустыне водить его сорок лет, пока не вымрут все «кровью умытые»?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Колпакиди - Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями]](/images/nocover.webp)