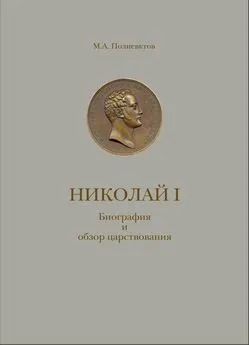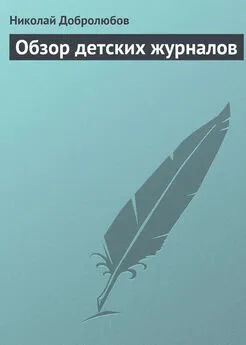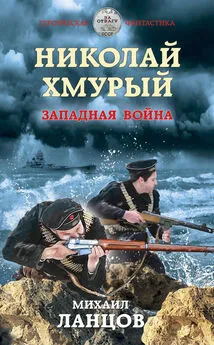Михаил Полиевктов - Николай I. Биография и обзор царствования с приложением
- Название:Николай I. Биография и обзор царствования с приложением
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Православное издательство “Сатисъˮ ООО
- Год:2003
- Город:СПб.
- ISBN:5-7373-0240-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Полиевктов - Николай I. Биография и обзор царствования с приложением краткое содержание
Николай I. Биография и обзор царствования с приложением - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Недостаточность подготовки, получаемой в могилевской школе, выдвинула вопрос об устройстве высшего военно-учебного заведения. В том же 1826 г. император Николай, отчасти, быть может, ввиду общих политических условий данного момента, поручил ген.-ад. Жомини изложить свои соображения о преподавании военных наук, имеющих отношение к ведению «большой войны», в связи с устройством особой «стратегической школы». 21 марта того же года ген. Жомини представил записку на французском языке об учреждении Центральной школы высшей тактики (Scole Centrale de grande Tactique), в которой должны были преподаваться тактика, стратегия, военная география Европы, военная и морская статистика, обозрение оборонительных и наступательных систем европейских государств, хозяйственная система и система снабжения и военная история, начиная с Петра Великого.
Государь одобрил записку Жомини и положил на нее резолюцию: «Ilyadefortbonnes idees. Cette ecole sera formeede meilleurs sujets de tous les corps sans exception, places sous les ordres de Jomini et sous les ordres immediats du Major General; elle sera tenue dans la olus exacte discipline, et seront loges, tout le monde ensemble; le cours sera de deux ans; et je n'y veux que la haute Strategie, la Geographie et l'Histoire militaire» [69]. Военные события ближайших за этим годов заставили отложить на некоторое время поднятый вопрос в сторону, и только в октябре 1829 г. была учреждена комиссия, вскоре переименованная в комитет, для составления положения о высшем учебном заведении, в которую, под председательством Жомини, вошли: гр. Сухтелен, ген.-лейт. Хатов, ген.-майор Шуберт и несколько позднее ген.-ад. Нейдгард. При этом письмом Чернышева на имя Жомини от 3 октября 1829 г. была выражена Высочайшая воля, чтобы это заведение не предназначалось исключительно для Генерального штаба, но было бы Военной академией, которая распространяла бы свое влияние и на другие части армии, и чтобы в академии один час в неделю посвящался строевому учению, «дабы эти занятия отнюдь не были пренебрегаемы, а, напротив того, тесно связаны с теоретическим преподаванием других отраслей военного искусства». В комиссии мнения разошлись: сам Жомини понимал поставленную задачу более широко, связывал с ней преобразование самого Генерального штаба и настаивал на том, чтобы во время прохождения курса учащиеся в академии были совершенно освобождены от строевой службы. Члены комиссии, и в особенности Нейдгард, стояли на противоположной точке зрения. Последнее мнение поддерживал и Чернышев. Предположения ген. Жомини в общем не удостоились и Высочайшего одобрения. Выработанное комитетом Положение об академии по Высочайшему повелению было изменено, согласно со сделанными по нему замечаниями Чернышева, ген. Нейдгардом, отдано на заключение Дибичу и утверждено 4 октября 1830 г. как Устав Военной академии. Само открытие академии последовало в начале 1832 г.
Увлечение отжившей свой век линейной тактикой, окончательно восторжествовавшее в высшем военном управлении, постепенно проникло и в академию, а отсутствие с 1832 г. и почти вплоть до последних лет николаевского царствования настоящего боевого опыта не позволяло создать этому увлечению необходимый противовес. Немалое значение в этом отношении имел при императоре Николае фельдмаршал Паскевич, пользовавшийся большим доверием у государя, стяжавший себе славу своими действиями на Кавказе, но не оправдавший своей репутации в Венгерскую кампанию и во время войны 1853–1855 гг.
Мы уже знаем, к чему сводилась восторжествовавшая теперь в военном деле система. Глубже вникая, чем многие из его сотрудников, в существо военного дела, сам Николай Павлович, тем не менее, вполне разделял веру в подобную систему. При получении известий о ходе военных действий в 1849 г., «государь хвалил боевые порядки, – пишет в своем дневнике Н.И. Муравьев, – говоря, что фельдмаршал (Паскевич) описывает ему пользу их на практике». «Стало быть, – продолжал государь, – все, что мы ныне в мирное время делаем при образовании войск, правильно и необходимо для военного времени». Критикуя отдельные действия военачальников в боевое время, Николай Павлович часто делал очень веские замечания, но всегда притом и сам держался «тактических правил, утвержденных уставом».
Подобная система отражалась в николаевское время и на вооружении и обмундировании войск. Преувеличенная оценка массовых движений и, в последний момент наступления, атаки холодным оружием приводили к тому, что на стрельбу не обращалось достаточно внимания. Среди военных авторитетов того времени существовало даже мнение, что «привычку (много стрелять) надо бы извести в войсках, а не усиливать оружием, дающим способ к сему»; иначе «войска перестанут драться, и недостанет никогда патронов» (Н.И. Муравьев-Карсский). До конца николаевского царствования поэтому большая часть войск была вооружена гладкоствольными, заряжавшимися с дула кремниевыми ружьями старых образцов, лишь некоторая часть – ударными ружьями, и только в стрелковых батальонах, у саперов и в кавалерии были нарезные штуцера и карабины. Сильное отбивание темпов при ружейных приемах, чрезмерная чистка оружия ради внешнего блеска совершенно к тому же расшатывали и выполировывали ружье, делая его не только совершенно негодным, но зачастую даже небезопасным при стрельбе.
Запас оружия на случай войны полагался очень невеликий, а в действительности, как это выяснилось к 1853 г., достигал лишь половины положенного числа. Обмундирование войск, рассчитанное на внешнюю красивость, стесняло движение людей, а боевое снаряжение, которое солдату приходилось носить во время похода на себе, отличалось чрезмерной тяжестью и доходило до 2 пудов 7 фунтов [70].
В 1831 г. был издан новый Рекрутский устав, по которому и производилось комплектование войск до самого конца николаевского царствования. По этому уставу военная служба по-прежнему оставалась обязательной лишь для лиц податного сословия – крестьян, мещан и солдатских детей. От рекрутской повинности можно было избавиться приобретением выпускаемых правительством зачетных рекрутских квитанций, а также выставляя за себя заместителя по найму. Ежегодно при наборе в среднем около 80 000 человек в год – поступало в армию до 10 000 чел. наемников. Следует отметить, что сам император Николай считал рекрутскую повинность несправедливой и невыгодной и отдавал предпочтение всеобщей повинности. «Всякий набор, – говорил он в 1845 г. кн. А.С. Меншикову, – счетом с 500 или другого участка душ, а также вербовкой, есть мера неправильная, и справедлива лишь одна конскрипция, обязывающая всех служить, но много препятствий существует к ее введению». Ближайшие сотрудники государя по военному управлению, и тот же кн. Меншиков, этого взгляда не разделяли. К концу николаевского царствования общая численность войск, как регулярных, так и иррегулярных, достигала 1 396 000 чел., т.е. почти равнялась современной русской армии в мирное время. Зато запас армии в николаевское время был очень незначителен, что не позволяло почти совершенно увеличивать численность армии в боевое время. Только с 1834 г. начали принимать меры к созданию запаса путем преждевременного увольнения в так называемые бессрочные отпуска: ежегодно в такие отпуска увольнялись до 17 000 чел. Меры эти были принимаемы в значительной степени по личному указанию императора, вполне сознававшего значение запаса. «Не ошибайся в отношении резервов, – писал Николай Павлович кн. Горчакову 20 октября 1853 г. – В прежние войны резервов в полном смысле значения слова, как я его понимаю, не было. Оттого полки таяли, не получая подкрепления или получая голых, необутых, изнуренных рекрутов; полки таяли, гибли, и за ними – никого! Теперь на каждый полк 2 батальона резерва. Но… надо резервам быть на месте, в покое и не обременять их сверх меры караулами и другими посторонними заботами, а еще менее употреблять их без крайности против неприятеля». Многими из военачальников николаевского времени не сознавалось, однако, настоящее значение запаса, а сокращение срока службы считалось даже вредным в государственном отношении, так как от этого деревни «наполнятся людьми без дела и без средства к жизни, отчего можно ожидать больших беспорядков» (Н.Н. Муравьев-Карсский).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: