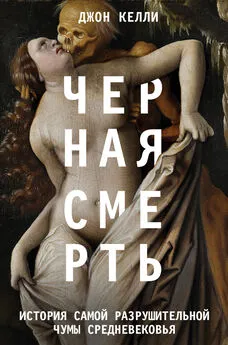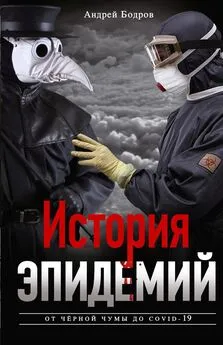Александр Сегал - История эпидемий в России. От чумы до коронавируса
- Название:История эпидемий в России. От чумы до коронавируса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2020
- ISBN:978-5-907332-96-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сегал - История эпидемий в России. От чумы до коронавируса краткое содержание
История эпидемий в России. От чумы до коронавируса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эпизоотия была в Петербурге настолько сильная, что палый скот валялся на улицах. Поэтому сенат приказал главной полиции «оный (скот) осматривать здесь от главной полиции, определяя от оной особого к тому офицера… и ежели усмотрен будет больной скот, то немедленно отделять особо и потому же пристреливать и зарывать от дорог в отдаленных местах, и везде наблюдать, чтоб так просто падалища не было».
Эпизоотия эта настолько встревожила правительственные власти, что было издано несколько именных указов о борьбе с этой болезнью. Так, в июле 1756 г. опубликован был указ о том, чтобы всех заразившихся лошадей без всякого замедления выгнать и «впредь выгонять от жилищ далеко в леса и поля… и людям к ним приближаться запретить, падаль же зарывать в глубокие ямы…».
Второй указ, от того же 11 июля 1756 г. был разослан во все губернские и провинциальные присутственные места. В нем говорится: «Из тех мест, где окажется скотский падеж дабы в С.-Петербурге скота прогоняемо не было и по тракту, в которых городах скотский падеж есть, чтоб чрез те места и здорового скота отнюдь не прогоняли и оного б не пропускали» [444]. 24 июля указ этот был подтвержден по причине «как около С.-Петербурга, так и во многих местах умножившегося конского и скотского падежа». При этом, по представлению Медицинской канцелярии, было предписано: «Яко к зараженному скоту и лошадям многие люди касаются и от того и людям не малая опасность воспоследовать может – к зараженному скоту, живому и палому, отнюдь руками не касаться» [445].
В 1761 г. была сильная эпиоозотия в Петербурге и его окрестностях, сопровождавшаяся многочисленными заболеваниями среди людей. Трупы животных валялись на улицах столицы и по дорогам, ведущим к ней. Медицинской канцелярией было отмечено, что люди заболевали либо при снятии кож с палых животных, либо вследствие укусов мух:…от такой валяющейся мертвечины, как через Медицинскую канцелярию известно, и людям тяжелые болезни приключаются, а особливо, когда мухи с того падалища укусят человека, то по примечанию, непременно тот на некоторое время болезнь получит» [446].
В это же время эпизоотия и заболевания среди людей наблюдались также и в Москве. В июле сенат «имел разсуждение» о том, что около Москвы и по Петербургской дороге продолжается «не малый конский и скотский падеж, который больше от того происходит, что палый скот… в отдаленных от жилья местах с предосторожностью не зарывают в ямы, а бросают в лесах и на полях, от чего на том палом скоте от вони являются мухи, которые, укусая и здоровый скот, тем ядом заражают и от того оный умирает, что от таковых мух и людям от укушения приключаться могут некоторые болезненные припадки…».
По распоряжению сената посланы нарочные для обнаружения незарытого в землю палого скота, и им предписывалось «оный скот тотчас в отдаленных от жилья местах зарывать, посыпая известью, в глубокие ямы». Больных же людей «тотчас, не допуская до сообщения с другими, отделяя от здоровых, отсылать далее в пристойные места и, чиня засеки, всякими удобовозможными способами пользовать» [447].
Первыми исследователями, упоминавшими о сибирской язве в России, были лекари Колывано-Вознесенских заводов Абрам Эшке и Никита Ножевщиков. Эшке принадлежит, представленное им в Медицинскую канцелярию, сочинение под названием «Краткое известие о Колывани и окололежащих местах о свирепствующих там болезнях между людьми и скотом, напоследок о растущих в некоторых местах Сибири травах и минералах». В нем, между прочим, описывается болезнь, поражающая скот и людей и по клинической картине сходная с той, что определяется теперь как сибирская язва.
Дальнейшее изучение сибирской язвы продолжал Ножевщиков, сменивший в 1758 г. Эшке на посту лекаря Колывано-Вознесенских заводов.
В рапорте, присланном в Петербург в 1763 г., Ножевщиков писал: «При здешних всех заводах и в ведомстве оных предписанного морового поветрия на людей не бывало, а бывает каждогодно в Барнауле, Колыване, на рудниках и заводского ведомства в слабодах и деревнях, по большей части в июле месяце и первой половине августа, пока большие жары продолжаются на людей обоего пола некоторой род чирьев, моровым чирьям или карбункулам подобный; здесь называют оную болезнь язвою и пятном, а по деревням ветроносною болезнию; по линии же Иртышской, то есть в Ямышевской, Симиполодской, Устька меиогорской, Бийской и прочих крепостях оный род чирьев называется неизвестной болезнью» [448].
По словам Ножевщикова, «еще в 1715 г. посланные солдаты и казаки для построения крепости Ямышевской заражены были, из чего заключить можно, что помянутая болезнь давно уже в Сибири обращается».
Описанные Ножевщиковым клинические симптомы заболевания дают полное право считать, что эта была кожная форма сибирской язвы.
«Сколько мне самому оную случилось видеть и пользовать, – писал Ножевщиков, – то оная бывает следующим образом: на всех частях тела, кроме пахов и пазух… уколет в какую-нибудь часть тела так чувствительно, как шилом или иглою, без всякого в те минуты знаку опухоли, язвы; по прошествии же несколько минут станет оная часть краснеть, твердеть и пахнуть, не причиняя никакой боли, а по происшествии суток, колми паче двух или трех, на середине является черное пятно, а по сторонам пузыри, пасокою острою наполненные, каковые в обжиге случаются. Знаки оной болезни суть опухоль с распалением, твердая, безболезненная. Шилом или иглою ежели оную прокалывать, то оные скрыпят, пока не пройдет до здоровой части… Притом с начала оной болезни больному всегда приключается маленький жар с жаждою и тоскою немалою, которые не продолжаются долее трех суток, ежели помянутый чирей заблаговременно, то-есть в первой или другой день шилом или иглою заколот не бывает».
Прогноз при описанной Ножевщиковым «ветроносной язве» был в общем благоприятен, причем исход зависел от своевременного и надлежащего лечения. «В здешних заводах в бытность мою ни одного оного не умерло, а по слободам и по деревням от невежества и от того, что им скорой помощи подать иногда бывает некому, умирают, и то уже редко, ибо во всех деревнях способ закалывания и натирания табаком и нашатырем ныне известен».
Ножевщиков приводил следующие данные о распространении и исходе сибирской язвы: в 1761 г. в августе в Чауской и Бераской слободах «одержимых оною 99 человек, а умерших из того числа только два человека было, и то от того, что в тех деревнях заколоть было некому и не знали». В 1761 г. в Бийской и Ануйской крепостях «были оною болезнью зараженных разного чипа людей около 500 человек, однако… все выздоровели…». Местные жители считали болезнь незаразительною и вместо «закалывания» чирьев закусывали их зубами, «а иногда из проколов сукровицу высасывают накрепко и потом выплевывают».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
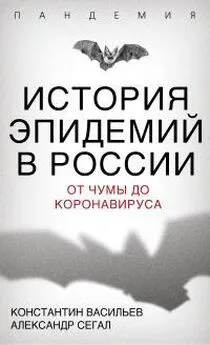



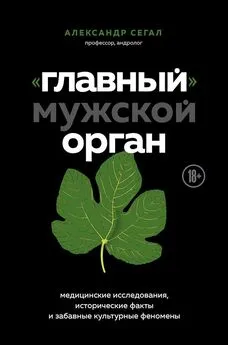
![Андрей Бодров - История эпидемий [От чёрной чумы до COVID-19] [litres]](/books/1066767/andrej-bodrov-istoriya-epidemij-ot-chernoj-chumy-do-covid-19-litres.webp)