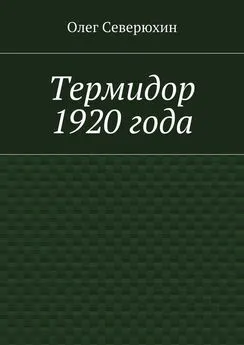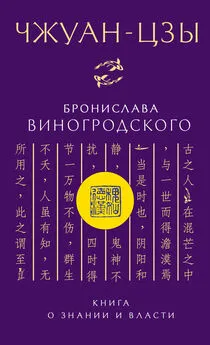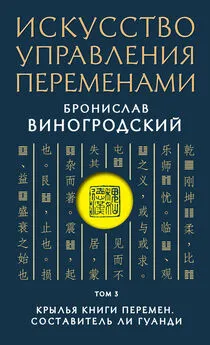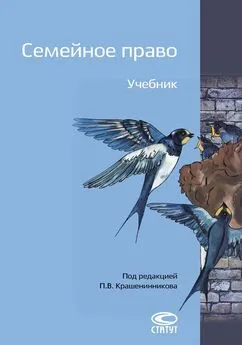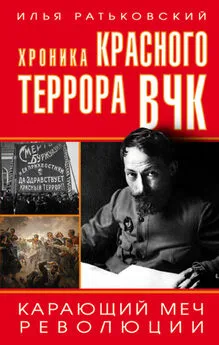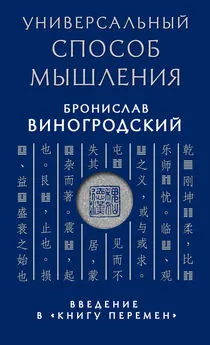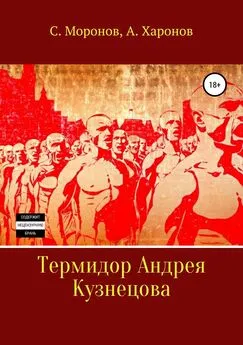Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция
- Название:Как выйти из террора? Термидор и революция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Baltrus
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-46-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция краткое содержание
Пятнадцать месяцев после свержения Робеспьера, оставшиеся в истории как «термидорианский период», стали не просто радикальным поворотом в истории Французской революции, но и кошмаром для всех последующих революций. Термидор начал восприниматься как время, когда революции приходится признать, что она не может сдержать своих прежних обещаний и смириться с крушением надежд. В эпоху Термидора утомленные и до срока постаревшие революционеры отказываются продолжать Революцию и мечтают лишь о том, чтобы ее окончить.
Как выйти из террора? Термидор и революция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
9 термидора не сразу стало «днем избавления». Первое широкое освобождение заключенных, отмена террористического закона от 22 прериаля и реорганизация Революционного трибунала последовали лишь за самыми массовыми парижскими казнями, когда 11 и 12 термидора препроводили на эшафот «робеспьеристов». Истинное избавление могло прийти лишь через освобождение слова: когда появилась возможность публично выразить страх и ненависть, когда через «разоблачения» стало известно о пережитых страданиях. Первые из этих разоблачений, в частности по поводу «заговора в тюрьмах», были сделаны с трибуны «обновленного» Якобинского клуба. Так, Реаль, который только что вышел из тюрьмы Люксембурга, поделился своим собственным опытом и призвал рассказать правду о Терроре.
«Чтобы по-настоящему питать отвращение к режиму, который недавно пал, мне кажется необходимым показать его омерзительные последствия. Возмущение добрых граждан должно подпитываться картиной тех бед, которые нас заставили претерпеть в тюрьмах. Пусть другие граждане, оказавшиеся в различных тюрьмах в результате преследований, расскажут об ужасах, свидетелями которых они стали; я же поведаю вам о том, что происходило в Люксембурге. Я не думаю, что революция — это дева, чью вуаль не следует поднимать, как говорится в некоторых докладах. Надевающий оковы режим, государство смерти, мрачное недоверие, написанное на всех лицах и глубочайшим образом впечатанное в души заключенных из-за подсаженных к ним шпионов, которые должны были готовить списки для Революционного трибунала, подбрасывать ему пищу; физическое и моральное состояние заключенных, — всё говорило о том, что Люксембург был одной гигантской могилой, предназначенной для того, чтобы поглотить живых» [103].
В ходе этих «разоблачений» идеологический дискурс, легитимировавший Террор как символическую систему, сталкивался с самыми жестокими реалиями. Эти «разоблачения» привели к массовому высвобождению скрываемых чувств и породили активную обратную систему символов. «Сюрпризы», рассказы об ужасах, воспоминания, которые хлынули на страну на следующий день после свержения Робеспьера, подчас становились определяющим фактором принципиальных политических решений, принимавшихся в конце II года, поскольку они не просто добавляли новые ужасы к уже известным и не ограничивались осуждением (ставшим своего рода ритуалом) «последнего тирана». Каждый новый рассказ поднимал проблему ответственности — и Террора, и «террористов». «Разоблачения» не просто изгоняли вчерашний страх, они разжигали ненависть. Желание отомстить было направлено не только на Робеспьера и его приспешников, казненных на следующий день после 9 термидора; оно начало распространяться на все политические, административные и судебные кадры, замешанные — прямо или косвенно — в осуществлении Террора. Нередко обвинения выдвигались против особенно жестокого тюремщика или против особенно усердного и непримиримого члена комитета бдительности. Но разве сами они не действовали на основании чрезвычайных законов? Почему же теперь только они должны были расплачиваться за «систему власти», в которой они были не более чем винтиками? Отсюда возникал постоянный вопрос: каким образом ограничить личную ответственность за преступления Террора так, чтобы она не затронула все эшелоны власти — от самого нижнего до самого верхнего, от тюремщика до депутата Конвента?
Процессы Революционного комитета Нанта и Каррье были первыми крупными процессами против «террористов». 10 термидора Робеспьер и его сторонники были казнены без всякого суда; по отношению к объявленным вне закона мятежникам процедура предусматривала лишь простое установление личности. Что же касается Революционного комитета Нанта, то он имел право на суд по должной форме и с участием прокурора и защитников. На самом деле это был не один процесс, а серия процессов, слившихся в единое целое.
Превратности истории Революции парадоксальным образом привели к тому, что после 9 термидора были спасены жизни как жертв Террора в Нанте, так и их палачей — как нантских нотаблей, отправленных в Париж, чтобы предстать перед Революционным трибуналом по обвинению в заговоре и измене, так и нантских «террористов», которые сначала бросили в тюрьмы этих нотаблей, а затем и сами оказались обвинены как контрреволюционеры и заточены в парижских тюрьмах.
Дело восходило к эпохе миссии Жана-Батиста Каррье. 21 октября 1793 года (11 брюмера II года) он прибыл в Нант в качестве представителя народа в миссии при Западной армии. Как и все другие представители в миссиях, он был наделен неограниченными полномочиями для спасения Республики, победы над ее врагами, обеспечения республиканского порядка, наказания предателей, мобилизации всех требовавшихся для армии ресурсов. В регионе, где свирепствовала Вандейская война, эти задачи были особенно сложными. Два дня спустя в народном обществе Венсан-ла-Монтань с быстротой молнии распространился слух: в Нанте готовился «федералистский заговор», ставивший своей целью захватить представителя в миссии и сдать город вандейцам. В этом «заговоре» были замешаны нотабли и самые крупные нантские негоцианты. 24 брюмера Революционный комитет, придумавший и распространивший этот слух, составил список из 132 «заговорщиков»; два дня спустя Каррье контрассигновал распоряжение об их аресте и передаче в руки Революционного трибунала в Париже. 7 фримера (27 ноября 1793 года) пешая колонна, первоначально состоявшая из 132 нотаблей, дошла до Парижа; им пришлось провести в пути сорок дней. Выжило лишь 97 человек. Дорога была тем более трудной, что дело происходило зимой. По прибытии в Париж нотабли были распределены между различными тюрьмами и госпиталями. Впоследствии умерло еще трое.
Тем временем Террор в Нанте достиг своего апогея и принял особенно дикие формы: массовые расстрелы, потопления, незаконные аресты. Город переживал тяжелое время: после поражения остатков вандейской армии при Савене тысячи пленных были собраны в Нанте и, в ожидании суда военной комиссии, заключены в превращенные в тюрьмы склады и госпитали; тысячи беженцев, среди которых было немало женщин и детей, искали в Нанте убежища в надежде избежать репрессий, которые прошли по провинции как дорожный каток. Вскоре разразился продовольственный кризис, особенно тяжело ощущавшийся в тюрьмах, где условия содержания были крайне неприглядны. Свой вклад внесли и эпидемии дизентерии и тифа (под влиянием общей паники в городе говорили даже о чуме). Репрессии затронули не только вандейцев: в городе шла постоянная охота за подозрительными и контрреволюционерами. Помогавших вандейцам видели повсюду; подозрительные семьи обвинялись в родстве и поддержании отношений с эмигрантами. День ото дня требовали уплаты все новых «революционных налогов», своего рода контрибуций; прежде всего это касалось «богачей» и «скупщиков» [104], на которых возлагалась ответственность за голод. Атмосфера подозрительности, доносов и произвола усугублялась конфликтами между различными властями с нечетко очерченным кругом полномочий, каждая из которых стремилась взять верх: законные власти, чья роль становилась все меньше и меньше; военное командование (считалось, что Нант находился в зоне военных действий); народное общество Венсан-ла-Монтань, тяготевшее к экстремистскому крылу якобинцев и практиковавшее своего рода прямую демократию, не спускало своего «бдительного ока» с властей, обвиненных в примиренчестве и пособничестве «подозрительным»; Революционный комитет, в котором по большей части главенствовали вожаки народного общества, видевшие свою задачу в «революционном надзоре» за городом в целом; «рота Марата», своего рода особая полиция на службе у Революционного комитета, набиравшаяся среди самых «надежных» элементов; и, наконец, над всеми этими инстанциями простиралась верховная и неограниченная власть Каррье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: