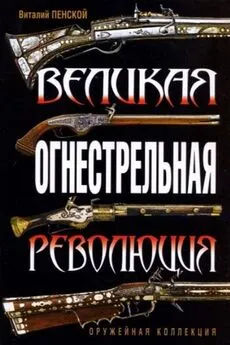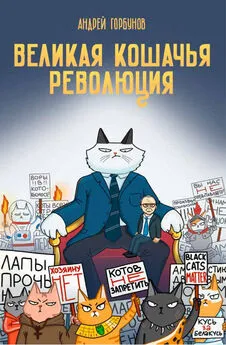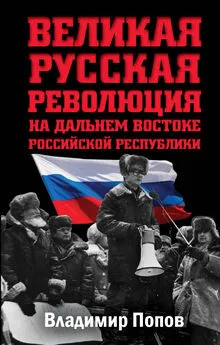Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Название:Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1991
- Город:М.
- ISBN:5-244-00418-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей краткое содержание
Великая английская революция в портретах ее деятелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как уже отмечалось, патриархальные черты в организации магистратуры проявляются в том, что отец семьи рассматривается в качестве низшего ее звена. Он считается по необходимости избранным с общего согласия детей. Равным образом и приход рассматривается как «единая семья», во главе ее стоят миротворец и надсмотрщики. Первый — не столько судья, сколько посредник между тяжущимися сторонами. Надсмотрщики же регулируют производство и потребление. Все они избираются на годичный срок.
По роду своей деятельности они делятся на четыре категории: 1) те, кто защищает неприкосновенность индивидуальной семейной собственности; 2) те, кто регулирует производство (по профессиональному принципу); 3) те, кто наблюдает за общественными магазинами; 4) те, кто составляет штат общественных контролеров.
Если магистраты первых трех категорий избирались сроком на год, то к последним могли быть причислены мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Они следили за правильным отправлением функций всеми должностными лицами. Кроме того, в приходе предусматривался представитель «армии» (именуемый солдатом), исполнявший в мирное время функции милиции. Все они в совокупности составляли совет прихода. В совет («судебную палату», или «сенат») графства должны входить судьи, а также все надсмотрщики приходов данного графства. Он заседает 4 раза в год в четырех частях графства. Это инстанция как контрольная, так и апелляционная. Наконец, высшая магистратура страны сконцентрирована в парламенте (в котором сосредоточены власти законодательная, исполнительная и судебная).
Левеллерская идея о разделении властей не оказала на Уинстенли никакого влияния, так как была несовместима с универсализмом «отцовской власти». Так, суть власти парламента Уинстенли определяет следующим образом: «Парламент — отец страны», «парламент происходит из низшей должности в стране, т. е. от власти отца в семье». Хотя этот «отец» в прошлом вовсе не жаждал заботиться о своих угнетенных «детях», хотя каждый новый парламент только то и делал, что утверждал законы, защищавшие богатых и сильных, и оставлял нетронутым гнет, давивший бедных и слабых, Уинстенли, однако, надеялся на то, что будущие парламенты — парламенты «Идеальной Республики», представляющие всю страну, перейдут от «обещаний» и «слов» к делу и принесут свободу тем, кто остается угнетенным, предоставив им ту долю материальных благ, которая принадлежит им по праву рождения [171] Поскольку «идеальное общество» мыслилось как возможное ближайшее будущее Англии, в его изображение то и дело вторгаются обстоятельства, привнесенные в него из общества, реально существующего, и поэтому далеко не идеальные. На эту «непоследовательность» утопии Уинстенли мы уже обращали внимание.
.
Большой интерес представляют разделы «Закона свободы», посвященные праву и законодательству. Уинстенли исходит из того, что народ может считать себя связанным правом только в том случае, если он является источником этого права . Перед нами принцип неизмеримо более демократичный, чем принцип, лежащий в основе левеллерского «Народного соглашения». Заботясь прежде всего о резервировании за народом так называемых неотчуждаемых прав, левеллеры по существу предоставляли парламенту возможность — за их пределами — законодательствовать по своему усмотрению. «Закон свободы» признает за парламентом в лучшем случае только законодательную инициативу, которая, прежде чем превратиться в закон, должна была получить согласие народа. Всенародное волеизъявление — такова решающая и завершающая процедура законодательства. Только по истечении месячного срока после своего обнародования законопроекты, не встретившие возражений, приобретают силу закона. Принудительная сила этого закона обеспечивалась такими инструментами, как суд, общественное рабство и, наконец, смертная казнь. Необходимость подобных мер принуждения объяснялась тем простым обстоятельством, что членами «идеального общества» снова-таки мыслились современники самого Уинстенли, одолеваемые страстями, такому обществу чуждыми и враждебными, но унаследованными от старого порядка. Отсюда сохранение в нем смертной казни и должности палача. Что же касается предусмотренного в «Истинной Республике» института общественного рабства, то его знали также все утопии XVI — начала XIX века. Само наличие в обществе работ тяжелых и для свободных граждан «унизительных» как бы предполагало необходимость такого разряда людей, которые выполняют подобные работы по принуждению. Итак, свободные выполняют работы более легкие и «простые», рабы (общественные слуги) — работы тяжелые и неприятные (грузчики, возчики и т. п.).
Наконец, свободный мог с согласия «надсмотрщика» потребовать себе на время такого общественного слугу, и тот не вправе был отказываться ни от какой работы. Такие слуги носят опознавательную одежду из некрашеного сукна; в случае нерадивости «слуг» наказывают кнутом.
Как правило, «порабощение» длится только год. По истечении этого срока судья решает, заслужил ли такой «слуга» освобождения, или ему назначают вторичный срок.
Однако Республика Уинстенли не знает тюрем, и ее законы преследуют цель скорее предупредить проступки граждан, нежели наказывать их. «Если, — пишет Уинстенли, — законы будут малочисленными и краткими и если их будут часто зачитывать, чтобы предупредить зло, и каждый, их зная… будет очень осмотрителен в словах и действиях».
Особенно суров закон по отношению к юристам, «продающим» отправление правосудия за деньги; для них предусмотрено лишь одно наказание — смертная казнь. Снова-таки, смешивая реально существующие условия и условия, относящиеся к общественному идеалу, Уинстенли требует «равного суда» для бедных и богатых (!), как будто в «Истинной Республике» еще есть место для имущественного неравенства.
Нельзя не отметить также исключительное миролюбие этой Республики, несмотря на наличие в ней вооруженной силы. Внутри страны армия стоит на страже свободы, вне страны армия «Истинной Республики» не имеет иных целей, кроме миролюбия, поскольку она не является инструментом распространения справедливых порядков за ее пределы. Цель Республики — «перековать мечи на орала», и она надеется на то, что эта цель будет достигнута только «светом разума».
Наконец, совершенно исключительный интерес представляют разделы «Закона свободы», касающиеся религии и просвещения. Здесь Уинстенли предстает перед нами истинным просветителем его времени, столь близким к рационалистическому и материалистическому истолкованию окружающего мира мыслителем, что трудно поверить в то, что еще совсем недавно тем же пером водила рука мистика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

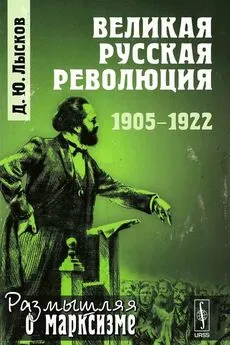
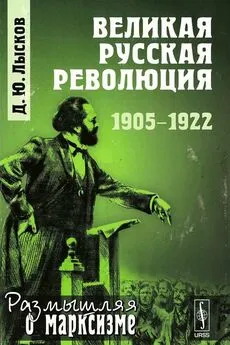

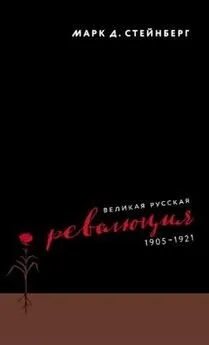
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)